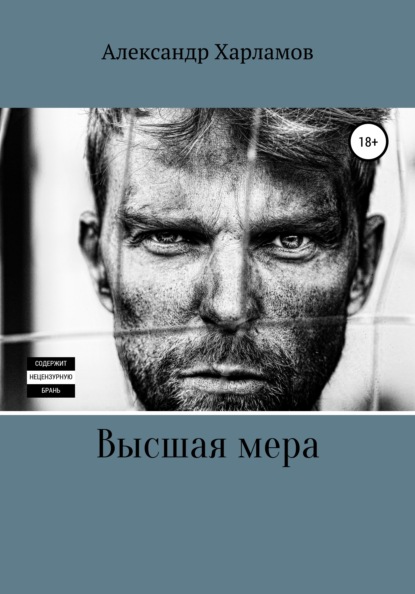По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Высшая мера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Василь Васильевич…– вежливо обратился к нему Качинский, который тоже проснулся и свисал надо мной, спустившись с нар.– Еще на улице темно, что ж мы там увидим?
– А видеть ничего не надо, посидите, померзните на просеке, может чего умного в голову придет. Поймете, что лучше спать в бараке, чем встречать рассвет в лесу на морозе. Строиться, я сказал!– рявкнул он, поворачиваясь к выходу.
Осужденные, недовольно покряхтев, строились в одну неровную шеренгу. Отец Григорий, так и не пошевелился.
– Поп, тебе что особое приглашение надо?– заметил его Щеголев. В ответ лишь молчание. Григорий Иванович все так же смотрел в деревянный сруб нар. Что он там видел? Свою красавицу жену или потерянных навсегда деток?
– Оглох что ли?– начальник отряда вернулся обратно. Внимательно осмотрел его.– Помер что ли?
– Да нет…Дышит вроде…– на затылке ушибленного мной Лома росла на глазах огромного размера шишка.
– Дурачком решил прикинуться,– кивнул понятливо Щеголев,– надеется, что в дурку спишут. Там легче и кормежка получше. А ну, встать!– заорал он, хватаясь за пистолет.
– Василич!– окликнул его Качинский, положив ладонь на руку начальника отряда, не давая тому достать оружие. Я видел, как глаза Щеголева наливаются кровью, он бледнеет и готов взорваться.
– Пусть полежит денек,– попросил Лев Данилыч, не отводя взгляда,– отойдет, а мы с Клименко за него норму выполним…– я ожидал, если честно, что тот бывшего белого офицера тут же и пристрелит, но что-то во взгляде Качинского Щеголева остановило. Он резко дернулся в сторону, поводя шей, будто воротник гимнастерки стал ему неожиданно мал. Он, действительно, был сейчас похож на разъяренного племенного быка, которому озорные ребятишки накрутили хвост. И сказал угрожающе тихо:
– Пусть лежит…А ты еще раз так сделаешь, я тебе обе коленных чашечки прострелю, понял?
– Так точно, гражданин начальник!– вытянулся в струнку Качинский.– Спасибо!
– Пошли вон, стадо баранов!– заорал Щеголев, отворачиваясь от побледневшего Льва Данилыча. Он, как и я, прекрасно понял, что находился всего лишь в шаге от мгновенной гибели, и то, что он не сделал этот самый шаг, целиком и полностью произошло только благодаря неплохому настроению начальника отряда, который на счастье Качинского был сегодня под хмельком, еще не выветрившимся с вечерних посиделок.
Строй шевельнулся, словно живая бесформенная расплывшаяся гусеница. Затопали несколько десятков ног к выходу. Мелькнула мысль, что хорошо, что Василь Васильевич не придумал пока распевать на ходу нечто патриотическое, иначе тогда мы совсем уж выглядели бы дураками.
На улице светать еще даже не начинало.Весь лагерь был погружен в синие непроглядные сумерки. На небе, туго затянутом облаками, не было видно ни луны, ни звезд. Сверху уныло и уже совсем медленно спускались пушистые влажные снежинки, как последнее дыхание прошедшей за ночь метели. Темноту разрывали лишь одинокие полоски рыжего света от прожекторов на вышках, падающих то в одну, то в другую сторону. Вертухаи наверху бдили, не спали, боясь побега.
После относительного тепла барака на улице показалось совсем уж стыло. Я приподнял воротник телогрейки, чтобы поменьше задувало в шею, наклонил голову вниз, пряча ее от снежинок, и стал рядом с Качинским. Хочет он или нет, но других близких друзей у меня в лагере не было. Лев Данилыч промолчал, глядя куда-то вперед. Но и это уже было неплохим симптомом. Был бы против такого соседства, прогнал бы.
Ноги мгновенно промокли, утопая в свежем, мягком, как перина снегу по самую щиколотку.
– Ну-ка подтянись!– браво гаркнул Щеголев, размахивая руками где-то в начале колонны. Вот уж у кого энергии хватило бы на десятерых. Только в девять нас загнал, всю ночь пробухал вместе со служивцами и вот, в три часа ночи уже, как огурчик.– Лучший отряд, а телепаетесь, как коровы беременные!
Помимо воли, подчиняясь бешеному напору сержанта, мы ускорили шаг. Да и теплее так было в разы. Горячее дыхание вырывалось из трех десятков глоток, поднимаясь клубами пара над колонной.
– Василь! Совсем с ума сбрендил? – изумился дежурный по КПП, распахивая широкие ворота в лагерь.– Куда ты их гонишь-то?
– Сами изъявили работать, сволочи этакие. Спать не хотим, есть не хотим, говорят, Василь Васильевич,– проговорил, весело щурясь, Щеголев,– работать давай! Кровью и потом вину свою перед Родиной, перед всеми советскими гражданами желают искупить.
– Доиграешься ты, Василь! Ох, доиграешься…– покачал головой дежурный.– Начальник лагеря новый. Черт его знает, как отреагирует на такое самоуправство… И меня с собой потянешь!
– Не бзди, пехота! Мы ему сегодня такую выработку покажем, забудет обо всех нарушениях, да, сволочи?– обратился он к нам, подмигивая подленько.
От этого, мы ему покажем, заранее становилось страшновато. Уж слишком непредсказуем был характер начальника отряда, слишком явственно в глубине карих глаз мелькала мутная водица сумасшествия.
– Шевелись, сволочи!– я обернулся. Мы с Качинским заняли место примерно посередине. Хвост еще только выходил из распахнутых настежь ворот, а голова колонны уже почти достигла промки. Кислов с подельниками двигался позади. Ах да, вспомнил я, ворам же работать западло.
– Оглядывайся теперь, за тобой по пятам смерть твоя ходит…– неожиданно повернулся ко мне Качинский, заметив мой настороженный взгляд.
– Вижу!– вздохнул я.– Но сделать ничего не могу…
– Я б убил бы…– коротко бросил Лев Данилыч.– Пока тебя не убили!
– Да как же…
– Они ворье, бандиты! Для них твоих принципов не существует,– резко оборвал меня бывший белый офицер,– кончил его по-тихому и дело с концом, а шавки Кислова сами разбегутся. Они только с хозяином зубастые, а так…Шавки и есть!
– Я подумаю,– пришлось согласится мне, боясь признаться, что сегодня мне самому приходила в голову эта мысль. Но вешать на себя еще один срок, как-то не хотелось.
Промка представляла собой огромную вырубку. Вековые сосны, устремляющие далеко в небо свои лохматые пики, окаймляли ее по всему периметру. Поломанный молодняк валялся целыми кучами в высоту человеческого роста. Тяжелые длинный пятиметровые бревна аккуратно складировались в самом краю. Рядом с ними расположился засыпанный снегом небольшой сарайчик, где лежал сложенный инструмент. Именно возле этого сарайчика Щеголев нас и остановил. Несколько раз хрипло гавкнула сонная овчарка, почуяв что-то в лесу. Может дикого зверя, а может просто, чтобы не уснуть. Солдатня, сопровождающая нас, откровенно зевала, явно недовольная причудами Щеголева.
– А я вот шел и думал…Чего ждать-то? – улыбнулся Василь Васильевич.– Для чего нам свет нужен? Что вы топором по бревну не попадете, а? Или пилой промажете мимо реза? Такие враги трудового народа видеть ночью должны не хуже, а то и лучше зверья. Вы все свои поганые делишки ночью-то в основном и обтяпываете…Так что такие сумерки вам, что ясный день! Разбирай, инструмент…По парам и на валку. Раньше начнем, раньше кончим! Да и время за работой быстрее идет, глядишь, такую полянку каждый из вас вырубит, «десяточка» в лагере незаметно пролетит,– он ехидно улыбнулся, засовывая руку за пазуху, где еще с вечера топорщился початый пузырь самогона. Сейчас мы на работу, а он в сараюшку с кем-нибудь из солдатни, продолжать гулянку....
– Что же вы, твари безмозглые, не спешите искупить свой долг перед Родиной?– нахмурился Щеголев, когда никто из отряда не сделал шага в сторону сарая.– Кто-то у меня тут обещал двойную норму за попа сделать?
– Сука…– процедил Качинский, первым делая шаг к инструменталке. Свое слово он привык держать.
– Сука, гражданин Качинский, это собачья особь женского пола! А я твой Бог и начальник, ясно?
– Так точно, гражданин начальник!– кивнул бывший офицер, выбирая себе топор под руку.
– Вот и славненько! Шелепков!– обратился он к одному из солдатиков, которые привели нас сюда сегодня.– Оставь, кого-то старшим, пусть присматривает за этими скотами…А мы пойдем обсудим кое-что!
Видимо, предмет обсуждения уже остыл и был полностью готов к употреблению. С неудовольствием подумал я, выбирая себе двуручную пилу. Она гибко изогнулась в руках, отозвавшись протяжным тоскливым звоном, под стать моему настроению.
– План двести стволов! – уже уходя, сообщил Щеголев, прекрасно понимая, что это нереально.
Для меня это все было вновь. Как-то все время получалось, что с момента попадания в лагерь, я все проскакивал мимо промки. Сначала комиссия, потом Головко…Поэтому руководил в нашей паре Качинский, который уже имел в этих делах некоторый опыт.
– Для начала надо вырубить место от молодняка, куда ты будешь ее валить,– инструктировал он меня, пробираясь по пояс в снегу к одному ему известной сосне. – Смотри не зевай, вокруг таких специалистов много, как мы с тобой, может и на голову чего упасть. Обычно перед валкой кричат: «Поберегись!». Но мало ли что…Сначала на стволе делаешь надрез там, в какую сторону сосна по твоим расчетам будет падать, а потом пилишь уже с другой стороны. Тут главное вовремя остановиться, иначе ствол лопнет и клацнет тебе по зубам. Для отче это было самое сложное!
– Понял,– кивнул я, понимая, что ничего все равно не понял и вместо тысячи объяснений лучше один раз это увидеть и пощупать собственными руками.
Вокруг затрещали пилы. Раздался стук топора. По вырубке растекся липкий смолистый запах, такой густой, что его легко можно было ощутить на своих губах. Мы выбрали сосну поближе к краю. Верхушка ее терялась где-то далеко в небесах среди таких же раскидистых крон.
– Надпил делаем!– Качинский взял у меня один край пилы и приложил куда-то под основание дерева. Потянул на себя, потом я…Получалось не очень. Пила застревала, изгибалась, звенела, с трудом вгрызаясь в твердую кору. Минут через пять, когда разрез стал глубиной около двух сантиметров. Качинский дал знак прекратить работу.
– Теперь здесь…– указал он на противоположную сторону ствола.
И снова долго и нудно мы водили пилой по миллиметру вгрызаясь в сосну. Стало жарко. Я даже попытался расстегнуться, но заметив предостерегающий взгляд Льва Данилыча остановился.
– Смотри, Сашка,– покачал он головой,– пневмония штука такая…От нее и помереть можно.
Пришлось работать в телогрейке. Когда ствол заскрипел, наклонился, поглощая тот маленький разрез, который мы сделали в самом начале, бывший офицер дал команду отходить. Сосна зашаталась, застонала, наклоняясь все сильнее.
– Бойся!– прокричал Качинский.
С грохотом и треском дерево рухнуло на уже приготовленную вырубку, подняв облако снежной пыли, в последний раз взметнув вверх свои пушистые ветки, будто раненый великан, сраженный-таки лилипутами в неравно бою.