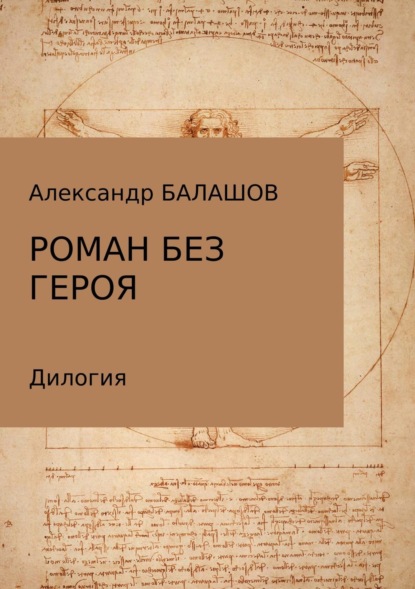По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 30-е годы из статьи в «Правде» я узнал, что Гитлер, желая выразить свое уважение к умершему старику фельдмаршалу Гинденбургу, устроил торжественное погребение кайзеровскому вояке на том самом месте, возле деревни Танненберг, где были мы с Самсоновым были окружены немецкими войсками. Фельдмаршал Людендорф, соратник Гинденбурга, на торжественные похороны старого пса не поехал – уж очень завидовал славе покойного.
Власть всегда спешит увековечить память о тех, кто по-собачьи предан ей. В 1914 году немцы так торопились увековечить Гинденбурга, что памятник ему в Берлине соорудили из досок. Возле памятника лежала куча ржавых гвоздей и молотки. Желающий выразить свое уважение к кайзеровской военщине брал молоток и засаживал в памятник гвоздь. Такое вот народное почтение – гвоздь в доску!
В августе 14-го мы всё-таки здорово дали прикурить пруссакам и двум армиям под командованием Гинденбурга и Людендорфа под городом русской воинской славы Гумбиненом. Этой победой позже восхищался сам Черчилль.
Но это небольшое отступление, чтобы читающему эти строки лейб-медика Второй русской армии, был понятен и фон, и ясна была обстановка, в которую попал мой земляк Пётр Карагодин, историю которого я описываю в этой тетради.
***
Карагодин хорошо помнил, как в начале войны они победоносно вторглись в пределы «непорочной Пруссии». Немцев, которые бежали из своих ухоженных городков так поспешно, что в кухнях на плитах казаки заставали еще горячие кофейники, вбивали в голов добропорядочных бюргеров, что «косоглазые орды вспарывают животы почтенным гражданам и разбивают черепа младенцев прикладами».
Петр сам видел на стенах домов яркие олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах, с пиками в руках. Длинные лохмы волос сбегали вдоль спины до копчика, из раскрытых ртов торчали клыки, будто кинжалы. Глаза – как два красных блюдца. Если бы он знал по-немецки, то прочитал бы под этими плакатами следующее: «Русский казак. Питается сырым мысом германских младенцев».
…В Гумбинен их пехотный полк вошел ранним утром. В поспешно оставленных немцами домах еще пахло кофе. На улицах – пустынно. Ротный предупредил их, чтобы с населением, которое они встретят в прусском городке, солдаты обходились мирно. «Мародерства не чинить,– напутствовал командир своих подопечных. – Самсон Самсоныч приказал казачьим патрулям таковых излавливать и расстреливать на месте.
Карагодина назначили в такой же патруль, только не казацкий, а армейский. Патрульные ходили по городу, выявляя подозрительные гражданские личности, которые имели бы своей целью всячески вредить вошедшим в Гумбинен русским частям. Только так вышло, что тот отстал от своих – натер ногу снятыми с какого-то перепуганного насмерть прусака обувкой. Да так натер, что не мог идти дальше. И тогда Петр решился зайти в один из домов, выделявшийся из остальных особняков своей угрюмой готической статью и высокой каменной оградой. «Здесь живут не бедные люди», – смекнул Петр.
И верно, дом при первом с ним знакомстве удивил своей мрачной величественностью. От серых каменных стен пахло вечной тайной. Это был даже не особняк, не барское имение, каких Петр вдоволь насмотрелся в России, а настоящий замок, хотя и несколько игрушечных размеров. Было трудно представить себе, что в таком доме могут жить люди. Замок с его готические башенками, массивными воротами, подбитыми железом, больше напоминали военную крепость, чем жилой дом.
Над красной черепичной крышей, на остром железном шпиле, поскрипывал на ветру плоский ржавый рыцарь. На голове – шлем с рогами сказочного единорога. Воин восседал на грузном коне, тоже защищенном железом. В правой руке – карающее копье. На щите рыцаря красовался фамильный герб какого-то старинного германского рода.
Такой же герб был отлит и на чугунной калитке. По опоясывающей рыцарский щит ленте шла надпись, сделанная готическим шрифтом. Если бы Карагодин знал латынь, он смог бы прочитать: “Suum cuigue” – «Каждому своё».
– Всяк дом хозяином славится…– почесав затылок, только и протянул Карагодин. – Гутен таг, железный человек.
Тяжелая железная дверца с фамильным гербом посреди чугунных завитушек жалобно скрипнула, но поддалась легко, впуская Петра. Сапоги, снятые Карагодиным с какого-то бюргера, попавшегося под руку на мосту через какую-то тихую речку, заскрипели по дорожке, посыпанной мелким красноватым гравием. Справа и слева на клумбах цвели цветочки. Из центральной клумбы торчал красный колпак глиняного гнома, призванного защищать покой и достаток этого выдающегося во всех отношениях дома.
Петр, ощущая жгучую боль в ноге, снял правый сапог. Потом, подумав, снял и левый. Связал их бечевкой, которую выудил из кармана, и перекинул перевязь через левое плечо. Слева трофейные сапоги, справа – винтовка.
Он воровато осмотрелся и толкнул дверь в жилые покои.
– Ей, немчура, вылазь из своих крысиных нор!
– Ор,ор, ор… – разнесло странное эхо по сводчатому коридору замка.
Казалось, что кто-то дразнит солдата.
Чтобы хоть как-то приободрить себя, Карагодин протрубил в сложенные в рупор ладони:
– Ей, змеи подколодные! Я иду!
– Ду, ду, ду…
Он заглянул в одну комнату, в другую… Поднялся по деревянной лестнице на второй этаж, обошел все башенки с узкими окошками, приспособленными для стрельбы, – никого. Идеальная чистота и порядок говорили6 в замке паники не было. Да и нутром Петруха чувствовал: в этом старинном каменном доме кто-то есть. А чутье у Карагодина было острее собачьего. Предчувствия никогда его не обманывали.
– Так, – пытаясь успокоиться и взять себя в руки, приободрился Карагодин. – Вы не ждали, а мы пришли…
Петр сделал еще несколько шагов, повернул направо и уперся в запертую массивную дверь.
– И пошел бы в гости, да никто не зовет… – пробурчал Карагодин себе в усы, снял с плеча трехлинейку. – Так, здоров буду – и денег добуду!
Он ударил прикладом по золоченой ручке. Замок крякнул – дверь отворилась.
Не опуская ружья, Петр вошел в помещение.
В комнате, служившей хозяину замка, по всему, кабинетом, были зашторены окна. Пахло каким-то лекарством, кофе и чужой жизнью. На стенах были прилажены охотничьи трофеем – голова оленя с крутыми рогами, волосатая башка дикого кабана с желтыми клыками в приоткрытой пасти. Глаза стеклянные, как у мертвецов.
Он дотронулся до кабаньего клыка, погладил желтую кость. Оглянулся – и вздрогнул от живого, как ему показалось, взгляда: с противоположной стены, где был устроен камин, на него в упор смотрела огромная голова черного волка. Его желтые глаза искрились от лучика августовского солнца, проникшего в комнату через не плотно задернутые шторы.
Под этой звериной головой были скрещены старинные шпаги. А дальше – сабли и секиры с копьями… Целый арсенал старинного холодного оружия.
Петр снял тяжелый рыцарский меч, подержал его в руке, чувствуя холодок железа. И неожиданно с размаху ударил мечом по муляжу огромной черной головы не то волка, не то дикого пса.
– Иех! – выдохнул Карагодин. – Кабы волк да заодно с собакой, то человеку житья бы не было!
Из чучела посыпались опилки и труха. Лучик солнца, разделявший комнату на две половины, тут же наполнился частичками серой пыли.
– Кафтан старый, зато заплаты новые, – засмеялся Карагодин неприятным, лающим смехом.
Он бросил меч и снял из-под разрубленной головы большой нож-штык, сделанный, по всему, недавно – из хваленой крупповской стали. Этот кинжал сразу приглянулся ему. У основания лезвия матово отливали в свете луча три цифры «6» и надпись по-немецки. Языка пруссаков Петруха не знал. (А если бы знал, то прочел слова, витиевато написанные гравером: «Я есть необходимое зло»).
– Знатный штык! – воскликнул Карагодин. – С таким другом и винтовка не нужна. Такой – не подведет…
Он засунул кинжал за ремень солдатской гимнастерки, отыскал глазами большое зеркало в черной деревянной раме и полюбовался своим отражением.
И вдруг заметил в самом углу зеркала чью-то неподвижную голову с широко открытыми голубыми глазами. Недреманное око, которое русские иконописцы изображали на иконах святых, в упор смотрело на Карагодина.
Он вздрогнул, но не обернулся, а спросил у отражения:
– Ты – кто?..
Голова осталась неподвижной, но длинные ресницы хлопнули пару раз.
– Живой, – сказал сам себе Петруха.
Он повернулся сделал несколько шагов к широкой постели, на которой лежал мальчик в темном обтягивающем, как у циркового гимнаста, трико. Тело мальчика было неподвижно. И по инвалидной коляске, которая стояла рядом с огромной кроватью, Карагодин понял, что юноша парализован. Нижняя часть его тела была непропорциональна верхней – мала и будто засушена. Худенькие ножки были неестественно коротки. Как у карлика на ярмарке. Зато голова этого уродца была раздута до увесистого арбуза, которые по осени привозили хохлы в Слободу. Большие голубые глаза смотрели на Карагодина спокойно и, казалось, совсем без страха. Это-то его и пугало больше всего.
Лицо паралитика было мальчишеское, не злое и не уродливое само по себе. Но оно пугало какой-то каменной неподвижностью. Казалось, это было и не лицо вовсе, а маска, застывшая в какой-то счастливый момент жизни бедного мальчика. Губы, даже напряженная, едва угадываемая улыбка – все были неподвижно. И страшно именно этой исторической окаменелостью.
– Ты – кто, малый?.. – держась за ручку только что обретенного щтыка-кинжала, спросил Карагодин.
– Ihc bin Diter, – почти не шевеля губами, ответил подросток чистым детским голоском, поняв вопрос пришельца.
– Кто-кто?
– Meine Name ist Diter. Ich bin krank…[36 - Меня зовут Дитер. Я болен (нем.)]
Мальчик повторил уже улышанную Петрухой фразу.