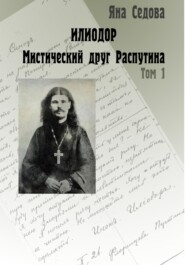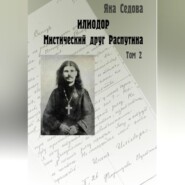По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Октябрический режим. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3) Если печатание подобных отзывов последовало с ведома и согласия председателя Совета министров, то с какими целями было оно сделано?».
В своем письменном ответе Горемыкин напомнил «Господину председателю Г. Думы», что ст. 40 говорит о разъяснениях, «непосредственно» касающихся рассматриваемых дел. «Не усматривая из отношения Вашего, какого из рассматриваемых Г. Думой дел касаются в "срочном предложении" вопросы, считаю долгом уведомить Вас, что я не нахожу законного основания для ответа на запрос, изложенный в срочном предложении, приложенном к отношению за № 51».
Муромцев ответил, что забота об ограждении достоинства правительственных учреждений – «предмет постоянного дела» их и он, Муромцев, продолжает ждать разъяснений от министерства.
Второе возражение Горемыкина было еще краше первого: «Милостивый государь Сергей Андреевич. Вследствие письма вашего от 25 сего мая за № 131, обязываюсь сообщить вам, что указываемая вами забота об ограждении достоинства высших государственных установлений, существование которых покоится на Основных законах Империи, руководит моими действиями в неменьшей мере, чем проявленными в этом направлении попечениями Г. Думы, но из этого не следует, что ст. 40 учреждения Г. Думы дает законное основание для запросов по поводу предания гласности поступающих на имя Его Императорского Величества всеподданнейших телеграмм. Примите, милостивый государь, уверение в отличном моем уважении и совершенной преданности. И.Горемыкин».
Тогда кадеты подогнали запрос под ст. 58 Учр. Г. Думы, то есть под категорию обычных запросов: «приняты ли меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущении напечатания в официальном отделе "Правительственного Вестника" телеграмм, восстанавливающих одну часть населения против другой и выражающих дерзостное неуважение к Государственной Думе?».
Однако Горемыкин ответил, что не находит возможным давать объяснения по этому запросу, так как распоряжения по поводу обращения к Его Императорскому Величеству от подданных и о предании таких обращений гласности ведению Думы не подлежат. Дума почти единогласно приняла формулу перехода с объявлением такого распоряжения о публикации этих телеграмм «незакономерным» действием.
Запрос о типографии (8.VI). Первое выступление Столыпина (речь о кремневом ружье)
Своей дебют в Г. Думе Столыпин начал с того, что запросто уселся на скамейку в «преддумском зале» (вероятно, Екатерининском) и повел беседу с неким кадетским депутатом. А Ковалевский вспоминал, как министр подошел к нему, сидевшему в своем депутатском кресле, представился и извинился, что до сих пор не ответил на ходатайство о Щербаке. Трудно сказать, разные это эпизоды или один, но простота обращения Столыпина весьма характерна.
Первая из знаменитых думских речей Столыпина представляла собой разъяснения по запросам.
Первый из них, вообще первый запрос, принятый народным представительством, касался газетных сведений о типографии, якобы оборудованной Департаментом полиции для печатания воззваний с призывами к избиению инородцев и интеллигенции.
Второй касался крупного деятеля Крестьянского союза Щербака, приятеля Ковалевского (с которым был знаком по Парижу) и Гредескула (с которым сидел в тюрьме). Ныне это лицо 6 месяцев ждало суда в одиночном заключении.
Столыпин сообщил, что внес дело Щербака в особое совещание, которое постановило переписку об охране прекратить. Итак, дело в порядке охраны прекращено.
Отвечая относительно типографии, Столыпин заговорил с Думой искренно и серьезно, совсем не тем тоном, который депутаты привыкли слышать от представителей правительства. Оказалось, что министр лично заинтересовался этим делом и приложил усилия, чтобы выяснить правду и понять «степень пригодности» Департамента полиции как орудия власти. «Я нахожу, что новому министру необходимо разобраться в этом деле. […] оговариваюсь вперед, что недомолвок не допускаю и полуправды не признаю»
По сведениям, собранным уполномоченными министра, дело рисовалось так. Два жандармских офицера – Комиссаров и Будаговский – по собственной инициативе занимались распространением патриотических воззваний. Узнав об этой деятельности, начальство остановило ее. «Эти действия неправильны, и министерство обязывается принимать самые энергичные меры к тому, чтобы они не повторялись, и я могу ручаться, что повторения их не будет».
Столыпин напомнил, что большинство его подчиненных – «люди, свято исполняющие свой долг, любящие свою родину и умирающие на посту. С октября месяца до 20 апреля их было убито 288, а ранено 383, кроме того было 156 неудачных покушений».
По поводу массовых арестов заведомо невиновных лиц Столыпин ответил: «Я не отрицаю, что в настоящее смутное время могут быть ошибки, недосмотры по части формальностей, недобросовестность отдельных должностных лиц, но скажу, что с моей стороны сделаю все для ускорения пересмотра этих дел. Пересмотр этот в полном ходу».
Как бы то ни было, сохранение порядка – обязанность правительства, и оно пользуется теми средствами, которые имеются в его распоряжении. «Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье; употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым».
Закончилась речь указанием на то, что действия правительства «знаменуют не реакцию, а порядок, необходимый для развития самых широких реформ».
Эта знаменитая «речь о кремневом ружье» могла бы быть обычной речью обычного министра, если бы не две особенности. С одной стороны, заметно, что он видит в Думе не врага, а союзника, идет к ней со всей душой. «…я откровенно это заявляю, так как русский министр и не может иначе говорить в Русской Г. Думе», – скажет годом позже Столыпин. «Это говорит свой среди своих, а не инородное Думе лицо», – заметил Розанов по поводу одной из подобных речей. Искренность министра отметили даже многие выступавшие следом ораторы. Выражение «не реакция, а порядок» выдает в нем сторонника законодательных учреждений. С другой стороны, подчеркивается обязанность власти охранять порядок. Эта золотая середина между революцией и реакцией – характерная черта Столыпина.
«Прежде чем понять, что говорит Столыпин, Дума заслушалась, как он говорит, – писал Колышко. – Справа налево прошла как бы электрическая струя. … У всех было удивление, у многих насмешка и зависть, но злости – ни у кого. Столыпин сказал одну из самых незначительных своих речей; но она произвела наибольшее впечатление – своей искренностью, теплотой и простотой. … Словом, дебюту Столыпина мог бы позавидовать сам Шаляпин».
В приведенные Столыпиным факты ораторы не верили, старались их опровергнуть, а один даже заявил, что министр внутренних дел, дескать, послал «своих же чиновников расследовать свои же собственные преступления». Освобождение Щербака – лишь единичный случай в виде «простой любезности» Столыпина к Думе.
Дума ответила министру самым крепким оружием, имевшимся в ее распоряжении. В ее рядах находился бывший товарищ министра внутренних дел кн. Урусов, который ввиду своей прежней карьеры должен был знать подоплеку деятельности Департамента полиции. Опираясь на документы, сообщенные его зятем бывшим директором департамента полиции Лопухиным, кн. Урусов раскрыл целый план организации погромов какими-то «темными силами». При существовании этих сил ни министр внутренних дел, ни любое другое министерство, «будь оно даже взято из состава Г. Думы», не смогут обеспечить порядок. Таинственные силы не позволяют Думе работать в единении с Монархом. «Здесь, господа, скрывается большая опасность, все ее чувствуют; эта опасность, смею сказать, не исчезнет, пока на дела управления, а следовательно на судьбы страны будут оказывать влияние люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики». «Погромщики!» – подхватили депутаты.
Затем тяжелая кадетская артиллерия в лице Винавера, Набокова и Родичева тоже подхватила это обвинение, особенно упирая на деятельность гомельского ротмистра Подгоричани-Петровича и вологодского ротмистра Пышкина. Родичев любезно назвал Столыпина честным человеком и посоветовал ему уйти в отставку, подав пример своим подчиненным.
Столыпин послушал-послушал и снова поднялся на кафедру. Он начал вновь искренно до наивности: «Господа, я должен дать свое разъяснение теперь, так как, к сожалению, не могу остаться до конца, – я должен ехать в Совет министров». Он опроверг несколько фактических неточностей в речах думских ораторов, выразил сомнение в правдивости данных кн. Урусова и, наконец, горячо возражал против существования каких-то темных сил. «Я должен сказать, что по приказанию Государя я, вступив в управление министерством внутренних дел, получил всю полноту власти, и на мне лежит вся тяжесть ответстенности. Если бы были призраки, которые бы мешали мне, то эти призраки были бы разрушены, но этих призраков я не знаю. Затем, меня упрекал г. Винавер в том, что я слишком узко смотрю на дело, но я вошел на эту кафедру с чистой совестью. Что я знал, то и сказал и представил дело таким образом, что то, что нехорошо, того больше не будет. Одни говорят – ты этого не можешь, а другие – ты этого не хочешь, но то, что я могу и хочу сделать, на то я уже ответил в своей речи. […] Мне говорят, что у меня нет должного правосознания, что я должен изменить систему, – я должен ответить на это, что это дело не мое. Согласно понятию здравого правосознания, мне надлежит справедливо и твердо охранять порядок в России (шум, свистки). Этот шум мне мешает, но меня не смущает и смутить меня не может. Это моя роль, а захватывать законодательную власть я не вправе, изменять законов я не могу. Законы изменять и действовать в этом направлении будете вы».
По речи чувствуется, что он задет за живое. Но вновь те же две стороны: подчеркнутое уважение к Думе и принцип твердой власти.
Министр сошел с трибуны под крики «отставка!» и покинул зал заседаний, оставив Думу кричать и свистеть до такой степени, что председатель вынужден был объявить перерыв. Иные депутаты, по признанию одного из них, «в ужасе хватались за голову, готовы были покинуть зал Таврического дворца».
В это время на трибуне был Рамишвили, вслух сокрушавшийся о том, что министр уходит и не услышит его речь. На следующий день обсуждение возобновилось и Рамишвили вновь выразил сожаление о том, что министры ушли: «Народные представители и народный враг вчера встретились лицом к лицу, и я хотел…» (тут председатель вовремя его остановил). Он произнес переполненную оскорблениями речь, которая, похоже, была заготовлена еще до выступления министров и разве слегка подправлена за время непредвиденного перерыва на ночь. Министры «говорили казенно, официально, по принуждению», а сейчас «пошли спасать отечество и, наверное, теперь в кабинетах готовят проект какого-нибудь нового погрома». Оратор призвал предать суду «всех грабителей, весь состав администрации сверху донизу, и нового, и бывшего министров, и премьера».
Аладьин раскрыл тайный замысел правительства. Оказывается, оно задумало план: 1) заявление министров в печати об их отношении к Думе (видимо, речь об интервью анонимного министра журналу «Times»), 2) погромы, 3) «небольшое военное восстание в Кронштадте, с двумя или тремя членами Г. Думы, расстрелянными на месте». Закончил оратор тем, что если министры не уйдут сами, то их «выбросят из этой залы».
Кадеты не отставали. Щепкин сказал, что «само присутствие здесь министерства есть уже издевательство над всеми стремлениями интеллигенции» и что министерство «может управлять только посредством погромов, военных положений и карательных отрядов».
Искренность министра заметили и запомнили. Даже «Русские ведомости» признали, что «лично сам по себе г. Столыпин произвел на большинство членов Г. Думы впечатление порядочного и искреннего человека». Однако трепетное отношение министра к Г. Думе лишь дало ей повод для новых насмешек:
«Вместо военного в мундире и с приказом под мышкой – перед нами появилась фигура почти европейская, – говорил Аладьин. – Министр с трогательным дрожанием в голосе объяснялся с нами; по-видимому, чувство заговорило в нем и он решил подействовать на нас, прийти по душам объясниться с нами и попытаться жить мирно». В речах Столыпина, по мнению оратора, заключалась просьба о прощении грехов прошлого и раскаяние. Члены кабинета «надеялись на то, что мы подадим им руку, пойдем навстречу к ним, облобызаемся, заключим мир, и будет всеобщее преуспеяние».
В одном из следующих заседаний Аникин назвал Столыпина так: «тот господин, который недавно здесь распинался перед вами с дрожью в голосе и со слезами на глазах».
Подчеркивая искренность Столыпина, ораторы отрицали возможность даже для честного министра что-либо сделать при наличии тайных сил. Заявление Столыпина о принадлежащей ему полноте власти – это «наивное утверждение». Является «ужас перед тем, насколько люди способны обольщаться».
Как обычно, кадеты призвали левых к хладнокровию и вместо формулы Рамишвили – «весь состав высшей администрации при нынешнем и предыдущем кабинетах подлежит суду по обвинению в ряде тяжких уголовных преступлений против жизни, имущества и чести русских граждан и в укрывательстве таких преступлений» – провели свою: Дума усматривает в погромах «признаки общей организации и явное соучастие в них должностных лиц» и приходит к заключению о необходимости отставки министерства и передачи власти кабинету, пользующемуся доверием Думы. «Русские ведомости» пояснили, что только такой кабинет сможет «наложить руку на вдохновителей черной сотни».
Запрос об оказании помощи голодающим (12.VI)
Второй раз Столыпин говорил в Г. Думе по поводу запроса о препятствиях, чинившихся администрацией частным лицам и представителям общественных учреждений при оказании помощи голодающим крестьянам. В сущности, министр, будучи человеком в правительстве новым, отвечал сейчас за своих предшественников.
Разобрав указанные в запросе случаи, Столыпин показал, что многие сведения не соответствовали действительности, в одном случае помощи (врачебной) и без того было достаточно, еще один энтузиаст прекратил работу сам за недостатком средств, другому (гр. Толстой в Пензенской губ.) действительно препятствовала администрация, но затем "путем телеграфных сношений препятствия были устранены". Некоторым лицам администрация действительно мешала, вплоть до закрытия благотворительных столовых, но по другой причине: непрошеные помощники прикрывались благотворительностью в противозаконных целях.
Что касается скандального циркуляра бывшего министра внутренних дел Дурново от 11.XI.1905, то Столыпин объяснил, что местами крестьяне в ходе аграрных беспорядков разграбили продовольственные магазины и запасы хлеба, купленные правительством именно в помощь голодающим. Тогда же было сделано разъяснение, что этот циркуляр не распространяется на семьи таких крестьян.
Единственную дельную речь в ответ произнес кн. Львов, видный земский деятель. Он изложил глубоко, очевидно, интересовавшую его мысль о передаче дела продовольственной кампании в руки общества. Но даже этот убежденный и искренний человек не удержался от обычной кадетской присказки о том, что министерство не пользуется доверием.
Другие ораторы осыпали правительство оскорблениями: «Русский народ грабить мы никогда не опаздывали, господа министры!», «когда же, наконец, господа, найдется у вас настолько порядочности и честности, чтобы убраться с ваших мест отсюда!..», «правительство, угнетавшее в течение десятилетий всякое проявление свободной деятельности, есть главный фактор нищеты народа».
Речь кн. Львова нашла отклик у министра, во второй речи обещавшего привлечь к нынешней продовольственной кампании «все живые общественные силы на местах, которые этому делу могут помочь». По поводу же оскорблений от левых депутатов Столыпин заметил: «я скажу на их клеветы, на их угрозу захвата исполнительной власти, что министр внутренних дел, носитель законной власти им отвечать не будет». Эти слова были встречены криками: «довольно! Белосток! Погромщик! Довольно! Долой!».
По соглашению кадетов с трудовиками предложена формула перехода: для организации продовольственной помощи необходимо участие общественности, а ассигнованные средства должны находиться под строгим контролем Г. Думы. Галецкий выражался еще откровеннее: Дума не должна дать министерству ни копейки на помощь голодающим. Министерство, сказал он, на эти средства «купит нагаек для того, чтобы избить этими нагайками этих же самых голодающих».
Удивительно! Только что Родичев говорил по поводу препятствий со стороны администрации: «если бы это были самые страшные преступники, – господа, есть ли где-либо во всем мире закон, который преступнику запрещает печь хлебы и кормить голодных?». И вот нашлись депутаты, которые уже решили помешать и правительству, которое они считали преступниками, – кормить голодных.
Жилкин был задет словом «клевета» из речи Столыпина: «Мы видели покрасневшее лицо, мы видели угрожающие жесты, обращенные к левой стороне, нам бросили слово "клевета". Разве мы можем равнодушно выслушивать это? Нам говорили, – будем дружно работать, а сегодня обращают к нам покрасневшее лицо, гневно угрожающие жесты и слово "клевета". Знает ли господин министр, что он совершил? Знает ли, что он бросил эту угрозу в лицо всему русскому народу, и что завтра по телеграфу эта угроза облетит всю Россию? Знает ли он то чувство гнева, которое охватит весь русский народ, и еще сильнее разгорится вражда между народом и между этим министерством, которое не хочет уходить, но которое должно будет уйти».
Наконец, в 6.30 пополудни формула Набокова – Аладьина была принята и только теперь министры покинули зал заседаний, причем им вслед кричали «В отставку! В отставку!».
«…вся Россия поддержит П. А. Столыпина в его программе продовольственной кампании, – и не господам Аладьиным остановить эту кампанию, хотя это, может быть, и входит в революционную тактику: создать в крестьянстве, лишенном продовольственной помощи, надежный кадр недовольных для ближайшего "активного выступления"…», – писали «Московские ведомости».
Оскорбления армии и казачества (13.VI)
В одном заседании по разным поводам прозвучал целый ряд нападок на армию и казачество в связи с их ролью в подавлении беспорядков.
Сначала при обсуждении запроса о конфискации ряда левых газет Гомартели заметил: «Посмотрите, господа, с каждым днем доходят до нас слухи, что славное войско наше пробуждается. Совесть и честь русского человека заговорили и в этом войске, и оно найдет в себе достаточно силы и энергии, чтобы смыть с себя кровь своих братьев».
Неожиданно за русское войско заступился демократ-реформист Федоровский, бывший артиллерийский офицер, отметив в словах Гомартели «и незаслуженную обиду, и великую неправду».