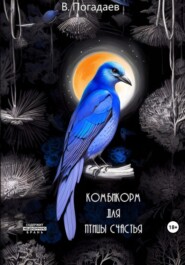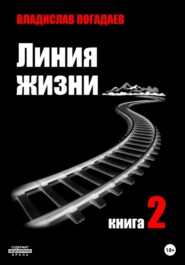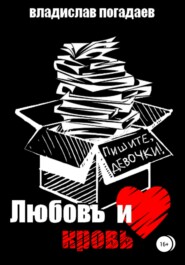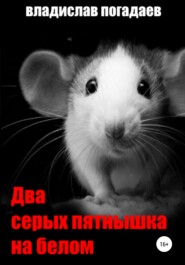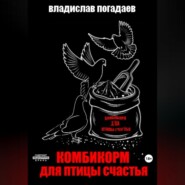По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Линия жизни. Книга первая
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну ладно, подождите здесь. Попробую, чтоб Диденко вас принял.
Через несколько минут мы втроём стояли в кабинете начальника ТТУ, где я снова повторил всё то, что до этого говорил Толыпину и Васильеву. Василий Александрович посмотрел на Сычёва и неторопливо произнёс:
– Ну и что вы его мытарите?
Потом обратился ко мне:
– Давай, дуй домой и успокойся.
А меня буквально трясло: это был единственный шанс, на кону стояла двухкомнатная квартира, получить которую, отработав на предприятии всего пять лет, было в те годы почти нереально. Впрочем, в наши годы это просто нереально – без «почти».
Я встал, попрощался и, уходя, услышал вдогонку:
– А ты квартиру-то уже выбрал? Ведь их всего три: на первом, седьмом и девятом этаже.
Я обернулся и, недолго думая, назвал седьмой этаж.
С каким настроением возвращался домой, в нашу барачную десятиметровку, объяснять не буду, и без слов понятно – эмоции захлёстывали. Я представлял, как сообщу эту невероятную новость своим, как обрадуется и будет гордиться мной бабуля! Я – настоящий мужик, который может обеспечить семье нормальные условия жизни. Особенно радовался за бабушку, которой больше не придётся спать на раскладушке посреди комнаты!
Сдав сессию, появился на работе. Третьяков при встрече в глаза старался не смотреть.
Вскоре выдали ордер на новую жилплощадь – радости не было предела, вот только бабуле становилось всё хуже, она сдавала прямо на глазах: даже с раскладушки уже вставала с трудом. Тут на помощь пришла Ляля, которая в то время работала в городском тубдиспансере, и бабулю на время переезда пристроили в стационар.
* * *
В двадцатых числах февраля семьдесят пятого года забили грузовой троллейбус различными приспособлениями и запчастями и поехали осваивать новое Орджоникидзевское депо, а вечером на этом же троллейбусе перевезли наши нехитрые пожитки. В течение недели докупили всё необходимое и вместе с братьями обставили квартиру.
В марте я забрал бабушку из больницы и на руках – лифт не работал – поднял на седьмой этаж. Увидав это великолепие: две комнаты, кухню, ванную, туалет – всё своё – бабуля приободрилась, болезни и немощи на время отступили, но с приходом тёплых дней ей снова стало хуже: бабушка уже с трудом вставала с постели, а двадцать первого мая умерла. Умирала спокойно, будто стараясь не обременять нас.
На душе стало пусто: ушёл самый дорогой мне человек. Со временем боль потери притупилась, но пришло осознание того, сколько бед и невзгод перенесла бабуля со мной и ради меня. Если б не она, меня давно бы уж не было на этом свете. Не стало моего ангела-хранителя. Видимо, она посчитала свою земную миссию выполненной: любимый внук жив и здоров, женат, растит сына, учится в институте; на работе его ценят, вон какую квартиру дали – живи да радуйся!
На тот момент бабушке было почти восемьдесят восемь лет, без пяти месяцев, так что сбылось предсказание цыганки, которая нагадала, что бабушка доживёт до восьмидесяти семи лет и умрёт на Пасху. Так и произошло. Пасха в тот год была четвёртого мая, и пасхальные торжества продолжались до тринадцатого июня.
Предсказание продолжает сбываться? 1975 год
Семьдесят пятый год, несмотря на радость от переезда в новую квартиру, был для меня, в принципе, тяжёлым годом. С первого апреля обрело юридический статус Орджоникидзевское троллейбусное депо, куда я был принят сначала мастером, а через месяц повышен до старшего мастера или, по-другому, начальника участка. Распорядок дня был следующий: в семь утра я на работе, после окончания смены – в институте, после окончания учёбы – снова на работе. Домой добирался только к часу ночи.
Такое положение вещей вполне объяснимо. Орджоникидзевский – район индустриальный. Уралмаш, завод имени Калинина, Турбомоторный, Электроаппарат, завод Пластмасс отбирали лучшие кадры, поскольку могли предложить рабочим более выгодные условия: зарплата, премия, жильё, не считая ведомственных поликлиник, профилакториев, детских садов и пионерских лагерей. Нам же доставались работники, отсеянные с этих промышленных гигантов: с низкой квалификацией или имеющие проблемы с алкоголем. Понятно, что работать с высокой эффективностью они не могли – приходилось помогать и одновременно обучать, ведь я отвечал за утренний выпуск троллейбусов на линию. А троллейбусы эти нам передали из Октябрьского депо. Ясно, что они собой представляли: отдавали, что похуже.
Кроме того, много сил ушло на запуск депо, нам же сдали голые стены: в смотровых канавах не было ни одного домкрата, не был настроен ни один станок, поэтому все работники, не считаясь со временем, устраняли недоделки и доводили депо до ума своими силами. Впрочем, так вводились в строй все предприятия: главным было в срок, а ещё лучше досрочно сдать объект на бумаге – отчитаться о выполнении социалистических обязательств – отсюда и соответствующее материальное вознаграждение. Кстати, опять же возвращаясь в наши дни, и сегодня многие объекты, финансируемые за счёт бюджета, сдаются в два этапа: формально-торжественно, с разрезанием ленточки, и фактически – после устранения недоделок.
Этот год оказался для меня напряжённым ещё и потому, что сразу после летней сессии я вышел на защиту диплома, которая была назначена на март семьдесят шестого. Темп жизни был сумасшедшим: ни одного выходного дня, и я сломался – в ноябре оказался в отделении гематологии на улице Блюхера.
Диагноз «геморрагический васкулит» был мне поставлен уже несколько лет назад; первые проявления отмечались ещё в колонии: на теле появлялись мелкоточечные кровоподтёки, сопровождаемые слабостью и быстрой утомляемостью. Возможно, триггером – спусковым крючком заболевания – послужило отравление фенол-формальдегидами, возможно, стрессовая ситуация. Впоследствии такие высыпания периодически появлялись и через некоторое время исчезали самостоятельно: молодой крепкий организм преодолевал болезнь. Но в этот раз всё было намного серьёзнее.
До обеда я ещё мог работать, а после полудня буквально валился с ног от изнеможения. Всё тело было покрыто мелкими кровоподтёками, которые сливались между собой в бляшки, началось внутреннее кровотечение. Тут опять вспомнил пророчество цыганки, которая предсказала, что я вряд ли доживу до тридцати лет, а ведь до указанного срока оставалось всего девять месяцев!
Но, видимо, бабуля и с того света продолжала молить за меня Господа: три месяца врачи боролись за мою жизнь и, наконец, я начал выкарабкиваться. Всё это время находился на бюллетене, но больничные листы, за исключением первого – из стационара – остались в ящике рабочего стола: шёл на службу, потому что считал, что должен отрабатывать полученную квартиру.
Началось это сразу после того, как отлежав в стационаре больше месяца, я выписался и пришёл домой к Геннадию Александровичу – доложиться. Сычёв был хмур и обижен:
– Вадим Михалыч, ну, ты же приходил домой из больницы, – я, действительно, раз в неделю приходил помыться, – мог бы и на работу заглянуть…
Оказалось, что большая часть машин, требующих ремонта, решением главного инженера Хруслова снята с линии и стоит вдоль забора, а план утреннего выпуска троллейбусов не выполняется.
Наутро я был в депо.
На «скамейке запасных» сидели безлошадные водители и обсуждали условия забастовки: во время простоя им платили лишь минимальную заработную плату, а это, понятное дело, мало кому могло понравиться. Неисправные троллейбусы ровными рядами выстроились вдоль забора.
Проанализировав записи в журнале учёта неисправностей, я выяснил, что основная причина выбраковки – сломанные рессоры. Надо отдать должное: Сергей Иванович Хруслов чётко выполнял инструкции по эксплуатации подвижного состава, а, согласно этим инструкциям, троллейбус, у которого сломан хотя бы один рессорный лист, не должен выпускаться на линию, ведь речь шла о безопасности пассажиров.
Плохие дороги, плохие амортизаторы да вдобавок сильные морозы – всё это вкупе значительно сокращало срок службы рессор. Беда в том, что заменить их было нечем: запчастей не было. Но зато было несколько списанных машин – из тех, что в своё время нам передало Октябрьское депо. Рессоры у них были другие, но, как говорится, за неимением гербовой пишут на простой. Есть и ещё одно подходящее к случаю выражение: голь на выдумки хитра.
Мы снимали старые рессоры, разбирали их и комплектовали по-новой в нужных параметрах. Длинные листы при необходимости подрезали. Обработав каждый лист графитовой смазкой, собирали рессоры заново. Таким путём нам удалось стабилизировать ситуацию в течение одной – двух недель.
Люди, я расту. 1976 год
В марте, к моменту защиты диплома, я был уже более-менее здоров, и защита прошла успешно. Вместе с корочками получил звание инженера, а вслед за ним и должность начальника ремонтных цехов. Кстати, чертежи к дипломной работе, разумеется, по моим эскизам, мне делала Виола Ананьева, работник нашего техотдела, за что я до сих пор ей благодарен.
За прошедший год в депо мы смогли освоить только профилактические виды ремонта, а требовалось научиться производить самый сложный – плановый. До конца года была решена и эта задача.
В семьдесят шестом году в депо произошли кадровые перестановки: начальник техотдела Виноградов как не особо ценный производственник был выдвинут на должность секретаря партийной организации, главный инженер Хруслов Сергей Иванович – переведён начальником техотдела, а его место занял Слава Пахомов, с которым мы моментально сдружились. В депо Пахомов пришёл с завода по ремонту трамваев и троллейбусов, до этого работал в ТТУ Барнаула, производство знал, и мы понимали друг друга с полуслова.
Все четыре квартала семьдесят восьмого года «Орджоникидзевское» по результатам работы занимало первое место среди всех пяти депо, за что переходящее Красное Знамя было передано нам на постоянное хранение. В восемьдесят первом году начальник депо Сычёв Геннадий Александрович за высокие достижения в работе вверенного ему подразделения был награждён орденом. Я получил грамоту.
Несколько слов о том, как мы добились таких впечатляющих результатов.
Одним из основных показателей деятельности депо является выполнение плана пассажироперевозок. Соответственно, чем меньше отказов и простоев машин, неплановых возвратов подвижного состава с линии в депо, тем больше количество перевезённых пассажиров. Постоянно отслеживая и анализируя причины сбоев в системе производства ремонтов, мы принимали решения, позволяющие влиять на ситуацию в комплексе. Для этой цели была специально создана группа из трёх человек, которые занимались только разработкой и внедрением рационализаторских предложений: Анатолий Тихонович Урусов, заслуженный изобретатель СССР, Володя Кунгурцев, Василий Сенченко. И дело пошло.
К примеру, очень большое число возвратов происходило из-за сломанных дверей, особенно в часы пик, а перевозить людей в троллейбусе с открытыми дверями, понятное дело, нельзя. Реле, которые обеспечивали открывание и закрывание дверей, были крайне низкого качества и массово выходили из строя. Мы подобрали аналогичные, но более надёжные и приобрели их через завод имени Калинина. Результат, что называется, налицо. Но это только один пример, а их была масса.
Инициатором выступал директор Сычёв Геннадий Александрович, который долгое время проработал на Свердловской железной дороге и правила, усвоенные там, старался вводить в депо. В большой мере это касалось внедрения справедливых условий оплаты труда, что в свою очередь сказывалось на производительности, на качестве ремонтных работ и перевозки пассажиров.
Одной из памятных страниц было социалистическое – а как иначе? – соревнование между Орджоникидзевским и Челябинским депо №2, которое открылось и было введено в эксплуатацию вслед за нашим. Стоит отметить, что за продолжительное время нашей дружбы-соперничества челябинцы очень редко у нас выигрывали.
* * *
Четырнадцатого сентября семьдесят девятого года в нашей семье произошло радостное событие: родился второй сын, Олежка – это имя дал ему Игорь. Накануне родов я снова отправил Надежду в Чайковский. Игоря, естественно, тоже. Помощь в лице как её, так и моей мамы была рядом, так что можно было не беспокоиться.
Спустя некоторое время, когда малыш окреп, я перевёз семью домой.
После рождения Олега мне предложили написать заявление на трёхкомнатную квартиру. Кстати сказать, в нашей организации очередь на жильё всегда была огромной, ведь само Управление домов не строило, а только получало отчисления от города.
Заместителем начальника ТТУ по общим вопросам был тогда Пугачёв Валентин Андреевич, человек очень пробивной и хваткий. В тот продолжительный период, когда он работал начальником Северного трамвайного депо, это депо по показателям работы всегда было на высоте. Позже, когда Пугачёв рос по карьерной лестнице, стал главным инженером ТТУ, а затем был переведён на работу в Облкомхоз, нас продолжали связывать хорошие деловые отношения. Именно Валентин Андреевич в считанные дни и решил мой квартирный вопрос. Как ему это удалось – не знаю, но квартиру я получил очень быстро.
Девятиэтажный панельный дом-стена, какими в те времена застраивали город, находился, да и до сих пор стоит на улице Молодёжи – такое вот позитивненькое название. А ведёт эта улица прямиком на Северное кладбище, где и заканчивается у ворот бывшего центрального входа – его впоследствии перенесли в другое место. Название оказалось пророческим и вполне оправдало себя сперва в восьмидесятые – с началом афганских событий, затем – в лихие девяностые – в период великого передела, а потом – в двухтысячные, когда во множестве стали погибать от наркоты совсем молодые ребята и девчонки.
Логичнее было бы именно эту самую улицу назвать именем двадцати шести бакинских комиссаров, расстреляных в 1918 году под Красноводском по решению местных властей за сдачу Баку турецко-азербайджанским войскам. А именем Молодёжи, наоборот, стоило бы назвать улицу Бакинских Комиссаров: в дальнейшем как раз она станет активно застраиваться новыми домами, в которых будут селиться молодые семьи.