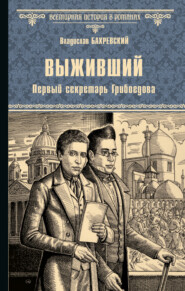По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Патриарх Тихон. Пастырь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С этой поры отец инспектор стал слышать у себя за спиной настороженную тишину. Семинаристы не только не шушукались, но и глазами не провожали – воспитанный народ. Замечания выслушивали вежливо, даже подобострастно, но инспекторские простоту и улыбки принимали за иезуитское коварство. Даже отсутствие взысканий вызывало страх. И вдруг – происшествие.
Старшекурсники решились отметить сразу два дня рождения. Обоим именинникам исполнилось по семнадцать лет.
Тихон был у себя в кабинете, знакомился с делами воспитанников. Картина получалась преудивительная. Из ста пятнадцати семинаристов – ни единого из семьи священника. Только двое – сыновья диаконов, один – регента, семеро – псаломщиков. Остальные – дети чиновников, зажиточных крестьян, сельских учителей.
В дверь постучали, вошел полный розовощекий семинарист пятого курса, представился:
– Владимир Вавресюк. Господин инспектор, разрешите доложить: воспитанники Трач и Дымша празднуют с вином – купили две бутылки кагора – свои дни рождения. Они все теперь во втором дортуаре шестого курса.
– Идите во второй дортуар шестого курса, – сказал Тихон, собирая со стола бумаги, – и так же прямо, как мне, сообщите собравшимся там, что инспектор по вашему докладу прибудет на место происшествия… весьма скоро.
Ровно через десять минут в дверь, где ни живы ни мертвы сидели нарушители дисциплины, раздался стук. Вошел инспектор. В руках две книги: томик Державина и томик Надсона.
– Позвольте поздравить именинников.
Дымша и Трач поднялись, оба бледные, головы опущены.
– Кто из вас более склонен к классике?
– Видимо, я. – Дымша поклонился.
– Примите Державина, а Надсона – вам. И разрешите побыть с вами несколько минут.
– Пожалуйста, отец инспектор! – Подали стул, поставили к пустому столу, вино и еду успели спрятать, но в глазах испуг.
– Я слышал, будто русский язык у местного общества почитается за язык хлопов. Говорить кому бы то ни было, что это не так, что русский язык высоко ценили Ломоносов, Мериме, Бисмарк, Пушкин, Гоголь, – смысла не имеет… Но пусть о языке великороссов, о его богатстве, о его музыке, о возможностях проникать в бездны мысли или же быть легким, безыскусным, а то и ужасно грубым – пусть обо всем этом расскажут поэты… Давайте устроим литературный праздник. Ну, скажем: русская поэзия от Державина до Надсона. На праздник пригласим гимназистов, всех любителей словесности…
Семинаристы ожидали обыска, мучительного расследования, кар… Ошеломление на лицах было откровенное, беспомощное. Первым спохватился Трач:
– У нас в городе есть железнодорожное училище. Можно также пригласить… учительскую семинарию.
– А Мариинское училище? – очнулся Дымша.
– Но оно женское!
– Мы пригласим не только гимназистов, но и гимназисток, – сказал Тихон. – Во-первых, семинаристам приходится думать об избранницах, а во-вторых, среди девушек любительниц поэзии много больше, чем среди юношей.
– Как же так! – сказал златокудрый красавец рокочущим баском. – Как же так! Поэты – все больше мужского полу, а потребители поэзии – полу женского?
– Вы Владимир Абрютин?
– Абрютин.
– Вот об этом обо всем и поговорим на нашем вечере, – улыбнулся отец инспектор, и впервые на его открытую улыбку ответили улыбками, робкими, настороженными. – Для начала, видимо, надо провести конкурс у себя. Чтецы должны быть очень хорошие. Обсудите, господа, мое предложение.
Поднялся, пошел, но в дверях остановился, потянул ноздрями воздух:
– День постный, пятница, а пахнет колбасой.
Снова притихли, снова испуг в глазах. За всех сказал Трач:
– Белому духовенству позволено потребление мяса, а в нашей западной епархии так даже монашеству.
– Верно, но не в постные же дни! Семинаристы хоть и не монахи, но люди православные. Не забудьте покаяться на исповеди.
И дверь за отцом инспектором затворилась.
Пушкинский праздник
В назначенный час в семинарию съезжались, как на бал у предводителя дворянства. Последними, почитая себя первыми дамами Холмщины, пожаловали супруги двух командиров полков, стоявших в городе, Бутырского и Московского его величества. Однако более полковничих припоздали самые главные гости.
В актовом зале поднялся уже шумок нетерпения, когда, наконец, прошествовала, сопровождаемая викарным епископом Гедеоном, игуменья Леснинского монастыря мать Екатерина. По сану преосвященный Гедеон, разумеется, был первенствующий гость, но игуменья-графиня, основавшая на свои деньги обитель, имела в Петербурге такие связи, что в Холме да и в Варшаве ее мнения принимались за истину.
Эпиграфом к празднику был пушкинский «Пророк» – декламация преподавателя словесности Ефрема Ливотова. Потом стихи Державина читал черноокий красавец с шестого курса. Его ликующий баритон обворожил девиц Мариинского училища и гимназисток.
– Как фамилия этого Аполлона? – спросила ректора Климента мать игуменья.
– Весьма простонародная и даже забавная. Он из крестьян, приписанных к Яблочинскому монастырю, – Побийволк.
– Что за нелепость! – Игуменья нахмурилась. – Поменяйте ему фамилию. Поищите повеличавей. Миротвореньев или, скажем, Вселенский… Громогласов!
– Так Вселенский или Громогласов?
– Вселенский, – сказала мать игуменья.
Звонкоприятная лира!
В древни златые дни мира
Сладкою силой твоей
Ты и богов и царей,
Ты и народы пленяла! –
вдохновенно раскатывал сладостные волны звуков Побийволк, не ведая, что отныне фамилия у него и благозвучная, и вполне благородная – Вселенский.
Чтеца приветствовали щедрыми аплодисментами. Побийволк поклонился, встал в ряды хора, и хор запел, да так, словно разверзлась бездна неба, осеняя слушателей сонмом сияющих звезд. Было исполнено молитвословие, сочиненное царем-юношей Федором Алексеевичем. Пели в унисон, с медлительною торжественностью, и такая великая, такая чистая вера звучала в слове, в гармонии слиянных воедино голосов, что казалось – это сама земля поет славу Творцу жизни.
Далее отец ректор сказал речь о духовной поэзии, были прочитаны переводы святого Романа Сладкопевца, и снова читали светские стихи. Вдруг из зала была предложена тема диспута: действие поэзии на женское сердце, женщина и поэзия. Желающих философствовать прилюдно не нашлось, но прозвучали поэтические откровения Каролины Павловой, Ростопчиной, Буниной.
Вечер заканчивал Вжибылович. Прерывающимся звенящим альтом, устремив глаза поверх голов в одну точку, юноша читал Надсона:
В тине житейских волнений,
В пошлости жизни людской,
Ты, как спасающий гений,
Тихо встаешь предо мной.
Последнюю строку Вжибылович почти прошептал, и зал замер, боясь не услышать сокровенного.
И, от борьбы отдыхая,
Снова готовый к борьбе,
Сладко молюсь я, рыдая,
Старшекурсники решились отметить сразу два дня рождения. Обоим именинникам исполнилось по семнадцать лет.
Тихон был у себя в кабинете, знакомился с делами воспитанников. Картина получалась преудивительная. Из ста пятнадцати семинаристов – ни единого из семьи священника. Только двое – сыновья диаконов, один – регента, семеро – псаломщиков. Остальные – дети чиновников, зажиточных крестьян, сельских учителей.
В дверь постучали, вошел полный розовощекий семинарист пятого курса, представился:
– Владимир Вавресюк. Господин инспектор, разрешите доложить: воспитанники Трач и Дымша празднуют с вином – купили две бутылки кагора – свои дни рождения. Они все теперь во втором дортуаре шестого курса.
– Идите во второй дортуар шестого курса, – сказал Тихон, собирая со стола бумаги, – и так же прямо, как мне, сообщите собравшимся там, что инспектор по вашему докладу прибудет на место происшествия… весьма скоро.
Ровно через десять минут в дверь, где ни живы ни мертвы сидели нарушители дисциплины, раздался стук. Вошел инспектор. В руках две книги: томик Державина и томик Надсона.
– Позвольте поздравить именинников.
Дымша и Трач поднялись, оба бледные, головы опущены.
– Кто из вас более склонен к классике?
– Видимо, я. – Дымша поклонился.
– Примите Державина, а Надсона – вам. И разрешите побыть с вами несколько минут.
– Пожалуйста, отец инспектор! – Подали стул, поставили к пустому столу, вино и еду успели спрятать, но в глазах испуг.
– Я слышал, будто русский язык у местного общества почитается за язык хлопов. Говорить кому бы то ни было, что это не так, что русский язык высоко ценили Ломоносов, Мериме, Бисмарк, Пушкин, Гоголь, – смысла не имеет… Но пусть о языке великороссов, о его богатстве, о его музыке, о возможностях проникать в бездны мысли или же быть легким, безыскусным, а то и ужасно грубым – пусть обо всем этом расскажут поэты… Давайте устроим литературный праздник. Ну, скажем: русская поэзия от Державина до Надсона. На праздник пригласим гимназистов, всех любителей словесности…
Семинаристы ожидали обыска, мучительного расследования, кар… Ошеломление на лицах было откровенное, беспомощное. Первым спохватился Трач:
– У нас в городе есть железнодорожное училище. Можно также пригласить… учительскую семинарию.
– А Мариинское училище? – очнулся Дымша.
– Но оно женское!
– Мы пригласим не только гимназистов, но и гимназисток, – сказал Тихон. – Во-первых, семинаристам приходится думать об избранницах, а во-вторых, среди девушек любительниц поэзии много больше, чем среди юношей.
– Как же так! – сказал златокудрый красавец рокочущим баском. – Как же так! Поэты – все больше мужского полу, а потребители поэзии – полу женского?
– Вы Владимир Абрютин?
– Абрютин.
– Вот об этом обо всем и поговорим на нашем вечере, – улыбнулся отец инспектор, и впервые на его открытую улыбку ответили улыбками, робкими, настороженными. – Для начала, видимо, надо провести конкурс у себя. Чтецы должны быть очень хорошие. Обсудите, господа, мое предложение.
Поднялся, пошел, но в дверях остановился, потянул ноздрями воздух:
– День постный, пятница, а пахнет колбасой.
Снова притихли, снова испуг в глазах. За всех сказал Трач:
– Белому духовенству позволено потребление мяса, а в нашей западной епархии так даже монашеству.
– Верно, но не в постные же дни! Семинаристы хоть и не монахи, но люди православные. Не забудьте покаяться на исповеди.
И дверь за отцом инспектором затворилась.
Пушкинский праздник
В назначенный час в семинарию съезжались, как на бал у предводителя дворянства. Последними, почитая себя первыми дамами Холмщины, пожаловали супруги двух командиров полков, стоявших в городе, Бутырского и Московского его величества. Однако более полковничих припоздали самые главные гости.
В актовом зале поднялся уже шумок нетерпения, когда, наконец, прошествовала, сопровождаемая викарным епископом Гедеоном, игуменья Леснинского монастыря мать Екатерина. По сану преосвященный Гедеон, разумеется, был первенствующий гость, но игуменья-графиня, основавшая на свои деньги обитель, имела в Петербурге такие связи, что в Холме да и в Варшаве ее мнения принимались за истину.
Эпиграфом к празднику был пушкинский «Пророк» – декламация преподавателя словесности Ефрема Ливотова. Потом стихи Державина читал черноокий красавец с шестого курса. Его ликующий баритон обворожил девиц Мариинского училища и гимназисток.
– Как фамилия этого Аполлона? – спросила ректора Климента мать игуменья.
– Весьма простонародная и даже забавная. Он из крестьян, приписанных к Яблочинскому монастырю, – Побийволк.
– Что за нелепость! – Игуменья нахмурилась. – Поменяйте ему фамилию. Поищите повеличавей. Миротвореньев или, скажем, Вселенский… Громогласов!
– Так Вселенский или Громогласов?
– Вселенский, – сказала мать игуменья.
Звонкоприятная лира!
В древни златые дни мира
Сладкою силой твоей
Ты и богов и царей,
Ты и народы пленяла! –
вдохновенно раскатывал сладостные волны звуков Побийволк, не ведая, что отныне фамилия у него и благозвучная, и вполне благородная – Вселенский.
Чтеца приветствовали щедрыми аплодисментами. Побийволк поклонился, встал в ряды хора, и хор запел, да так, словно разверзлась бездна неба, осеняя слушателей сонмом сияющих звезд. Было исполнено молитвословие, сочиненное царем-юношей Федором Алексеевичем. Пели в унисон, с медлительною торжественностью, и такая великая, такая чистая вера звучала в слове, в гармонии слиянных воедино голосов, что казалось – это сама земля поет славу Творцу жизни.
Далее отец ректор сказал речь о духовной поэзии, были прочитаны переводы святого Романа Сладкопевца, и снова читали светские стихи. Вдруг из зала была предложена тема диспута: действие поэзии на женское сердце, женщина и поэзия. Желающих философствовать прилюдно не нашлось, но прозвучали поэтические откровения Каролины Павловой, Ростопчиной, Буниной.
Вечер заканчивал Вжибылович. Прерывающимся звенящим альтом, устремив глаза поверх голов в одну точку, юноша читал Надсона:
В тине житейских волнений,
В пошлости жизни людской,
Ты, как спасающий гений,
Тихо встаешь предо мной.
Последнюю строку Вжибылович почти прошептал, и зал замер, боясь не услышать сокровенного.
И, от борьбы отдыхая,
Снова готовый к борьбе,
Сладко молюсь я, рыдая,