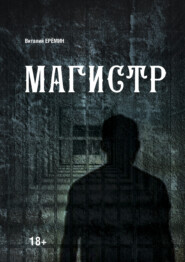По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эмансипе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Суслова. Василий, неужели у тебя, в твои двадцать два года, еще не было женщины?
Розанов. Отчего ж? Была. Но как же прав Федор Михайлович: красота – страшная сила.
Суслова. У тебя все еще столбняк? Ой, я знаю, что мне и с тобой не повезет. Но интересно, до какой же степени.
Розанов. Вам не везет, а мне наслаждение.
Суслова (принимая томную позу). Так насладись. Потрогай меня. Нет, не через одежду. Обними меня без тряпок. А вот целоваться мы не будем. Ну, если только не в губы.
Яркость освещения сцены уменьшается. Розанов приближается к Сусловой. Хочет прикоснуться к ней и не решается.
Суслова подходит к буфету. Достает бутыль с надписью «Хлебная водка». Наливает в два стакана. Отрезает ломоть черного хлеба. Переламывает надвое. Протягивает стакан Розанову. Розанов робко берет.
Суслова. Черный хлеб – самая здоровая закуска при употреблении хлебной водки. Пей, голубчик, набирайся мужского духу.
Чокается с Розановым и выпивает полстакана одним махом до дна. Смотрит испытующе. Под ее взглядом Розанов выпивает водку без лихости. Видно, что делал он это раньше не часто.
Розанов. Вы повторяете Федора Михайловича. Голубчик – его словечко. Вам осталось только назвать меня, как он называл вас. Чрезвычайно любопытным существом.
Суслова. А что? Ты очень любопытное существо. Будет тебе ревновать раньше времени.
Суслова делает вид, что водка ударила ей в голову.
С пьяным смехом она обнимает Розанова и падает вместе с ним на постель. Розанов с блаженством осыпает поцелуями ее обнаженные места.
Суслова. А ты только с виду диковатый, Василий, а на самом деле, гляди, какой сладострастный. Давай я буду звать тебя на французский манер Базилем, а то Василий звучит как-то совсем простецки. Совсем не для любви.
Розанов. Я распущенности не чужд. (Целует ей грудь.) Я докажу. Я докажу.
На сцене становится совсем темно.
Голос Сусловой. А вот этого не надо. Давай обойдемся без этого. Лучше вот сюда поцелуй. А теперь сюда. Вот, хорошо.
Розанов. Как же? Я хочу детей. Много детей. Чего вы боитесь? Они все будут похожи на вас.
Суслова. Детей я не хочу, даже гениальных. Феденьку тянуло к молоденьким. А у тебя, получается, все наоборот?
Розанов. Ну что вы, Полинька, вы совсем не…
Суслова (шутливо). Договаривай, негодник. Хотел сказать, совсем не старая?
Розанов. Вы словно юница: грудь, руки, живот…
Суслова. Грудь, руки, плечи, живот – сама знаю. А лицо? Вся моя порочность – в лице, этого ничем не скрыть, никакими румянами. У тебя раньше были только проститутки. Ну признайся же.
Розанов (себе). Как она угадала?! Я целую ее, но не перестаю бояться. Есть подарки судьбы, от которых душа горит и зябнет.
Суслова. Что ты там мычишь? Как разгорелся-то! Ну, гори, гори.
Розанов (в зал). И я любил эту женщину и, следовательно, любил весь мир. Женщина эта была близко. Я близко подносил лицо к ее животу, и от живота дышала мне в лицо теплота этой небесной женщины. Теплый аромат ее тела – вот сейчас моя стихия и вся моя философия. И звезды пахнут. Господи, и звезды пахнут. И сады. Все теперь пахнет ее запахом.
Улица.
Розанов и Щеглова идут из школы.
Щеглова. Вася, как же так быстро-то? Что с тобой?
Розанов. Видишь ли, Таня… Не знаю даже, как сказать.
Щеглова. Пусть об этом у тебя будет одна точка зрения.
Розанов. Таня, человека тянет к тому, чего ему особенно недостает. Чего он жаждет. А я – человек жаждущий. Ты очень хорошая, Таня. Ты слишком хорошая для меня. Зачем мне делать тебя несчастной?
Щеглова. Туман. Тень на плетень. А не отчасти в чем жажда? (Видя, что Розанов напряженно молчит, продолжает с отчаянием.) Чем такие вас берут? И Миша туда же.
Розанов. Куда туда же?
Щеглова. А ты что же, не видишь, как он смотрит на нее?
Розанов. Таня, это как приворот. Я – это вроде не я.
Щеглова. Васенька, она ж тебе в матери годится.
Розанов. Таня! Я понимаю, я смешон. Я понимаю, что и тебя ставлю в смешное положение. Но это выше моих сил.
Щеглова. Господи, что ж такое с тобой! А может, это пройдет? Ты ж такой переменчивый. Раньше это меня беспокоило, а сейчас обнадеживает. Ты ж такой понятливый. Ты ж сам установил канон, что женщина без детей – грешница. А ведь она уже не может иметь детей.
Розанов. Таня, нам с тобой еще работать вместе. Зачем ты драматизируешь? Эх, Таня! Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет: и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй только по морали. Нет, я ей говорю: гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, добренькая, гуляй как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу.
Щеглова. К вечеру жизни? Точно, я не узнаю тебя. Ты – это уже не ты. Что-то вроде этого я читала у Ницше.
Розанов. Ах, Таня, тогда я тебе иначе скажу. Добродетель так тускла, а порок так живописен, а страдание – такое наслаждение.
Щеглова. Что ты считаешь страданием?
Розанов. Когда я получаю незаслуженное.
Щеглова (осеняя Розанова крестным знаменем). Это в тебе тщеславие забродило. Порок не живописен, а противен и мерзок, Вася.
Розанов. Я должен это испытать, через это пройти.
Щеглова. Через что «это», Вася?
Розанов. Я должен испытать свою порочность, Таня. И поэтому тоже хочу пройти через унижение. Это сделает меня сильнее. Мне надоела бесконечная моя слабость.
Щеглова. Знаешь, как это в медицине называется?
Розанов. Знаю, Таня. Ну мазохист я, наверное.