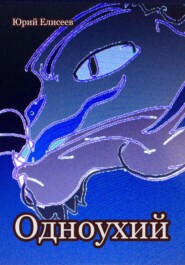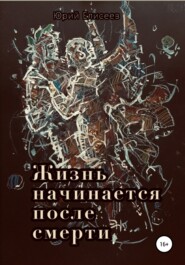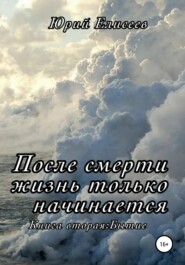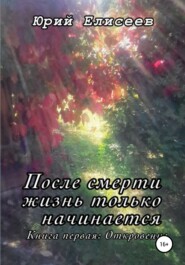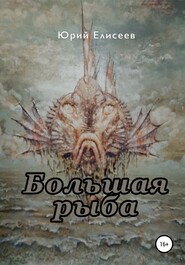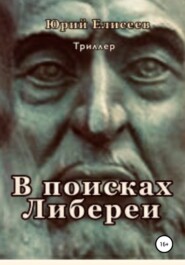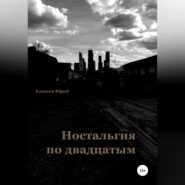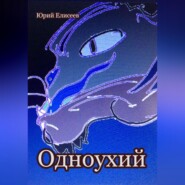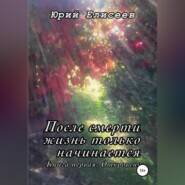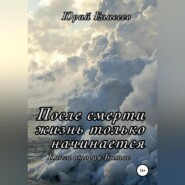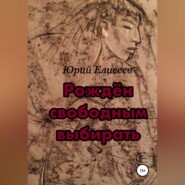По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Оглянитесь сотник Черкашин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Савелий задумался, припоминая куда был ранен.
– Да вот сюда кажись, в бок, под лопатку пуля мне угодила..
Глядя перед собой в мутную пелену прошлого, прадед продолжил рассказ.
– Пришло войско в тысячу, али поболее, кто знает.. Спасибо атаману – объявил военное положение. Так на всякий случай. А когда в полдень у околицы появился враг – казаки уже, как один были на валу.. и казачки тоже..
Про оборону станицы написано было мало, за скупыми цифрами потерь, скрывались самопожертвование, отвага и ярость защитников станицы. Благодаря устройству в виде крепости с высокими валами с пушками и частоколом по периметру станица, выдержала первый удар и врага удалось остановить. Ногайцы обложили станицу с четырёх сторон: забрасывали зажигалками, стреляли из луков зажженными стрелами. Им удалось поджечь многие дома, сараи, дворовые постройки. Вспыхнула конюшня заводчика Ермилова, кузня Калейкина. Пока по периметру станицы шёл бой, внутри жители боролись с огнём. Только благодаря им – в основном старикам, женщинам и детям, удалось отстоять две трети строений охваченных огнём. В бою многие казачки не уступали мужчинам. Сестра хорунжего Алёна, метко стреляла по вражеским позициям, заставляя кипчаков прятаться за деревьями и камнями. Жена казака Карпова подносила ядра, а Лукерья Анисимова помогала раненным. Дважды прорвав оборону, ногайцы заходили на северную улицу, но были успешно отброшены обратно за вал, откуда продолжали обстрел до захода солнца. С наступлением вечера, быстро стемнело и обстрелы прекратились совсем. На этом закончился первый день осады. Ночью были пресечены несколько мелких вылазок: смельчаков уничтожили и головы их побросали за вал. Под утро атаман собрал совет обороны, на котором командиры стали думать что делать дальше. Предстоящий день обещал быть нелёгким – порох и пули были на исходе, двадцать казаков убиты, многие ранены, гонец, ещё днём посланный в Шелковскую, пропал без вести: в общем все понимали – надо готовиться к самому худшему.
После нескольких попыток, предпринятых в течении первой половины дня, ногайцам удалось проломить оборону в двух местах. Они вышли ко второму полувалу и давили казаков численностью. К этому времени порох и пули у станичников закончились, в ход пошли пики, сабли и кинжалы. Казаки рубились неистово. Савелий вместе с Сёминым и четырьмя казаками, услышав весть о прорыве обороны у северо-восточных ворот, похватав пики, поспешили на выручку и на полном ходу вломились вместе с конями в толпу нападавших. Савелий изловчился и нанизал на пику ближнего кипчака, словно таракана. Проткнутый ногаец, махал саблей, рыча брызгая слюной с кровью. Свободной рукой он крепко держал древко пики и Савелию никак не удавалось вытащить её обратно. В бок что-то ударило и стало горячо. Отставив пику ногайцу, Савелий выхватил саблю, обернулся и тут, за толпой нападающих, увидел знакомые папахи. Это были казаки из Шелковской, которые наконец пришли на подмогу. Они с ходу ударили кипчакам в тыл и началась рубка. Позже выяснилось, что гонец, посланный за подмогой смог добраться до места только ночью. Пока собирали подмогу, пока тащили пушки, прошло много времени – к Червлёной подошли ко второй половине дня, и как говорится: поспели во время. Кипчаки оказались зажаты с двух сторон. Неожиданная атака Шелковских была словно кара божья! Побросав пушки, кибитки, телеги и коней, ногайцы бежали а степь. Их преследовали до границ каганата, забрав ещё много вражеской жизни. Разорив несколько становищ, поделив добытый скот, пленников и добро, казаки вернулись по домам: шелковские направились в одну сторону, червлёнцы – в другую. Вернувшись домой, подсчитали потери и убытки. Было сожжено десять домов, убито тридцать пять человек, двадцать ранено, среди них был Савелий – пуля прошла под лопаткой по касательной и уже через неделю он был на ногах. Похоронив убитых, всем миром начали возводить дома. Вся станица превратилась в большую стройку. Савелий понял, что пора ставить свой дом. Для этого были заготовлены сошники, полусошники, лоза и глина. В назначенный день пришли соседи. По прочерченному на земле плану, где главное место отводилось печи, были вбиты сошники и для крепежа лозы, полусошники. Между ними а несколько слоёв вплели лозу по принципу плетня. Посреди двора насыпали толстым слоем глину, поверху раскидали прошлогоднюю рубленную солому, залили всё это водой и оставили киснуть. Затем, закатав штаны, подоткнув юбки, мужики и бабы месили глину, топчась по кругу по голень в вязкой жиже. Перемешанную глину мужчины грузили в корзины и относили женщинам, которые забивали её между каркасами из плетённой лозы. Работа шла споро и к концу дня основа стен была готова. Вечером хозяева здесь же во дворе выставили угощения и всем обществом уселись за столом. Ели пили и поглядывали на дело своих рук. Выглядела конструкция неказисто: корявые стены с торчащими стеблями соломы, пустые глазницы окон, проёмы дверей – всё криво, косо.. Но создатели были довольны – после подсыхание первого слоя, предстояло наложить ещё два, каждый из которых приближал качество стен к идеалу. Для этого в смесь добавляли мелкую соломку и навоз. На следующий день, пока стены будущей хаты сохли, на двор снова завезли глину и песок, тщательно перемешивали и набивали в деревянные формы. Получались кирпичи, их выкладывали рядами, долго сушили и складывали в бурты.
Прадед припомнил, что ночи были тёплые и кирпичи сохли быстро.
Когда через месяц строительство дома подошло к концу, вызвали печного мастера с подручными и началось сотворение источника домашней благодати. Мастер был щуплым жилистым мужичком с хутора «Семь колодцев» и вроде был отцом невесты, что венчалась вместе с Анастасией. На площади пяти с половиной метров подручные сделали подпечье из массивного сруба, на котором соорудили основу печи – «опечье» и началось удивительное. В центр опечья сел печник и принялся вокруг себя создавать свод. Он слой за слоем укладывал кирпичи, формируя горнило и постепенно скрылся из виду, лишь слышно было, как стучат его молоточки и кирки. Подмастерья в это время клали внешнюю часть печи: засыпку, шесток, печурки, хайло, вьюшку – вплоть до основания дымохода. Двое суток, как заведённые, работники создавали печь. Закончив горнило, мастер вылез через устье печи вперёд ногами и получил из рук Анастасии рюмку водки: – «чтобы печь давала достаточно тепла». На следующий день, печник с подручным перешёл на чердак, и через горизонтальный рукав /боров/, соединил дымоход с трубой. Закончив работу мастер спустился вниз, где его со стопкой водки, на этот раз, поджидал, в качестве хозяина, Савелий: – «чтобы была хорошая тяга». Да, печь получилась что надо: и тепло, и еду приготовить, и помыться, и от болезни-хвори первое средство. – Прадед довольно оскалился беззубым ртом, вспоминая дом и самую лучшую печь в нём. – Вот какие были мастера, – назидательно сообщил он,– сейчас таких нет.
К «Покрова» дом был построен, а весной следующего года в семье Черкашиных родилась дочь. Савелий редко появлялся дома. Как у всех станичников служба на кордоне занимала большую часть его жизни. Анастасия, воспитанная в строгих правилах, стойко переносила все тяготы казацкой жизни. Как у всех замужних казачек хозяйство и домашние хлопоты целиком лежали на её плечах.
Заканчивался последний год восемнадцатого века. В это время в Европе снова забряцали оружием: Суворов, совершив свой головокружительный переход, неожиданно для врага, сошёл на землю Швейцарии, вследствие чего окружённый корпус генерала Римского-Корсакова вместе с войсками принца Е. Кобургского и фельдмаршала Фридриха фон Готце были спасены от полного истребления. Через месяц в Вене был заключён союз с Англией и Австрией и Россия ступила во 2-ю антифранцузскую коалицию. Это время на Кавказе заканчивалось создание южных форпостов, системы кордонных укреплений на Кубани и Малке, которые когда-то начались с Гребенской линии на Тереке. На первом году 19 века начальником Кавказского края был назначен генерал-лейтенант Кнорринг и в следующем 1802 году он начал формировать на Линии семисотенный Сборный Линейный казачий полк. От Кизляра до Владикавказа, от станицы к станице набирали казаков в личную гвардию наместника. Дошёл черёд и до Червлёной. Здесь, к уже набранным в Кизляре, Каргалинской и Шелковской, должны были присоединиться пятьдесят местных казаков и среди которых был и Савелий. Прощаясь с родными, Савелий обнял мать, отца, Саньку, поцеловал дочь Дуняшу, обнял напоследок жену и вскочил в седло. Черныш заволновался, и мелко перебирая ногами, потянул к воротам, стремясь поскорее вырваться на волю. Савелий тоже почувствовал прилив возбуждения и нетерпеливая дрожь, идущая от коня, заполнила его. Проезжая под навесом, он пригнулся, бросил взгляд на Анастасию, шедшую возле стремени, вспомнил давнишний сон и подмигнул ей. На улице Савелий пришпорил коня, Черныш издал утробное ржание, задрал высоко голову и рванул вперёд. Сашка было побежал следом, но отец осадил его. На майдане, у дома атамана собралось около двух сотен казаков строевого разряда, прибывших из Кизляра, Каргалинской и Шелковской. Отметившись у писаря, Савелий направился к группе станичников и на полпути наткнулся на Лавра Арбузова, с кем однажды познакомился в Кизляре, возле крепостной стены, где гулял вдоль терского берега. День тогда был жаркий. Савелий сел на большой камень, оглянулся на равелин, возвышавшийся над рекой: над ним в раскалённом мареве полуденного солнца парили две птицы. «Вот бы щас дальнобойное ружьё.» – мечтательно подумал молодой казак прикладываясь к воображаемому цевью . Он видел такое у одного чеченца на переправе у червлёнского моста. В длину оно было почти в рост владельца и стреляло на сто ярдов.
– Брось мечтать, достать их отсюда можно только из ружья Жирардони.
Савелий вздрогнул и оглянулся на голос. Сзади, на высоком берегу стоял белобрысый молодой паренёк, одетый в дорогую черкеску, примерно одних лет с Савелием и ехидно усмехался, глядя на врасплох застигнутого казака. Потешившись, он спрыгнул вниз и сказал:
– Лавр, зовут так, а ты кто такой?
Савелий от неожиданности опешил, но встал и представился:
– Савелий, я из Червлёной.
– Понятно, гребенской, а я из крепости.– в голосе белобрысого сквозило превосходство, но в целом настроен он был доброжелательно. На правах местного он рассказал о здешних особенностях и предупредил, что находиться далеко от крепости не безопасно.
– Абреки и ногайцы совсем обнаглели. Чуть зазеваешься – сразу секир башка. Так что ты почаще оглядывайся. Опасно здесь: хоть и город кругом.
– А ты что? Видать не боишься.
– У меня сабля особенная. Из Дамаска. Я ею рисовать фигуры умею. – усмехнулся Лавр. Он лихо выхватил из серебряных ножен сверкающий клинок, с инкрустированной перламутром рукоятью и замахал в им в воздухе, сотворив несколько замысловатых фигур.
– Видал! – воскликнул парень, стараясь унять сбившееся дыхание.
Сложность манипуляций не впечатлила Савелия: по его разумению – рубить надо сразу, сильно, быстро и точно и следить за дыханием, что в бою не последнее дело, но, понимая, что эти его замечания не вызовут одобрения, отметил лишь лихость движений парня. Они вернулись в крепость. Лавр оказался сыном коменданта, служил при штабе и был приписан к Кизлярскому полку. Недолгое знакомство прервалось также неожиданно, как и началось и вот теперь, так же неожиданно, они встретились вновь. Лавр заметно возмужал, держался степенно с достоинством, на плечах черкески сверкали новенькие погоны подхорунжия, на голове белая папаха. Сначала он не узнал в Савелии бывшего знакомца, а узнав, холодно произнёс:
– Ты вот что, держи стратифакцию.
– Чево? – не понял Савелий.
– Дистанцию говорю держи, я теперь адъютант Наместника. Слежу за набором в Сборный Линейный казачий полк. Пойдём в Грузию, там теперь наша земля.
На этом разговор закончился.
Глава 5
– Пришли мы значить, во Владикавказ.
Старый Савелий поднял голову к солнцу, сощурился и промолвил:
– А проведи меня внучок в тенёк: темечко чтой-то жжёт, и дерюжку захвати..
Усевшись в тени тутовника, старик продолжил свой рассказ из которого правнук узнал, как начался знаменитый поход Сборного Линейного казачьего полка в Грузию. Пройдя вверх по Тереку и посетив по пути остальные Гребенские станицы, полк впитал в себя новые казачьи силы и приблизился к цели своего маршрута, селу Дзауджикау. Здесь у входа в Дарьяльское ущелье вначале 1784 года генерал-лейтенант Павел Сергеевич Потёмкин основал крепость, которая стала признанным центром терских народов и одним из оплотов России в Закавказье. Через два года, в 1786 году, в связи со сложившейся довольно сложной военно-политической обстановкой, Россия была вынуждена пойти на уступки Турции и снести фортификационны укрепления, а войска отвести на Кавказскую линию. И только после подписания Яссинского договора Россия смогла вновь восстановить линию своих укреплений от Моздока до Дарьяла. В том же году в крепость опять вернулись войска. Когда к вечеру 5 апреля 1802 года Сборный Линейный казачий полк прибыл во Владикавказ, в крепости уже закончили возводить ранее разрушенные укрепления, казармы и арсенал. Церковь, построенную ещё по указу Екатерины, отремонтировали и повесили колокол, отлитый рязанскими мастерами. Когда казаки входили через главные ворота на звоннице служка ударил в набат. В центре крепости прибывших встречали распорядители и разводили по секторам, где станичники могли расседлать коней, поставить навесы и приготовиться к отдыху. Казаки разбились по взводам, тридцатилетний унтер Григорьев, под началом которого был Савелий Черкашин, дал приказ обустроиться, а сам отправился к начальству узнать дальнейшие распоряжения. Станичники отвели коней к стене крепости, где, по приказу коменданта были оборудованы дополнительные стойла с яслями наполненными фуражом. Разобравшись с конями, казаки стали готовиться к ночлегу: натянули полог, из камней соорудили очаг, достали провизию. Вскоре появился унтер.
– Ничего путного я не узнал, приказали ждать. Наверно наместника. Так что отдыхайте, утро вечера мудреней. – Увидев котёл лежащий на дерюжке между луковицами, салом и мешочком пшёнки, унтер оживился. – А что у нас на ужин? Похлёбка или кулеш?
– Это как замесить. Если нежно – будет похлёбка. – отозвался Фрол Кашин, огромный казак с Яхтинского острова на юге Червлёной.
Григорьев ухмыльнулся, покосившись на руки Фрола:
– Ну да, твоими ручищами только похлёбку сотворять.
Он оглянулся на Андрея Григорьева, который приходился ему троюродным братом, сказал:
– Андрейка, сходь за моей сумкой, я кое-что до кучи добавлю.
Родственник сходил к коновязи и вернулся с седельной сумкой на плече. Унтер с заговорщическим видом расстегнул ремни, и засунув руку внутрь одного из них, достал краюху хлеба, связку сушеной тараньки, а с другой кусок прессованного чая.
– Это на закуску. – пояснил он.
Темнело быстро, похлёбка, которая больше походила на кулеш, закипела, и в нос собравшимся у костра казакам ударил густой запах. Лица станичников, в свете костра преобразились и выглядели нереальными проекциями другого мира. Может этому способствовало необычность момента или места, может это горный воздух сотворил с ними чудную шутку, но Савелию окружающие его станичники показались древними воинами, сошедшие сюда из небытия времён.
– Ешь, чево застыл. В большом обществе клюв не разевай. – услышав голос унтера, Савелий опомнился и полез ложкой в дымящийся котёл.
После ужина Савелию выпало идти мыть котёл и возвращаясь от колодца, он опять увидел Лавра. Тот сидел возле церкви в глубокой задумчивости, неподвижно уставившись в одну точку. Помня холодный приём устроенный ему в Червлёной, Савелий хотел молча пройти мимо, но Лавр окликнул его:
– Савелий, подь сюда.
Савелий остановился, исподлобья взглянул на Лавра, и всё ещё помня про обиду, буркнул:
– Зачем?
– Что ты как девица. – казалось Лавр потерял терпение. – Затем, что я тебе говорю. Дело есть.
Поставив котёл на камень, Савелий сделал несколько шагов к Арбузову.
– Присядь. – сказал Лавр, указывая лавку подле себя. Голос его по-прежнему звучал начальственно, но Савелий почувствовал дружеские нотки.
Савелий сел. После холодного приёма в станице, внимание со стороны генеральского адьютанта озадачило. «Чего он хочет от меня?» – подумал Савелий, ощутив на себе изучающий взгляд Лавра. Тот молчал какое-то время, затем сказал:
– Завтра вместе с гренадерским полком прибывает генерал-лейтенант Кнорринг. Нам предстоит нелёгкий и опасный переход через ущелье в Грузию.
Лавр достал кисет и трубку, неспешна набил её табаком. Взглянул на Савелия.