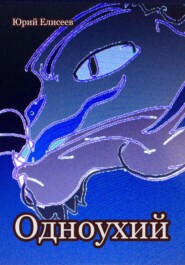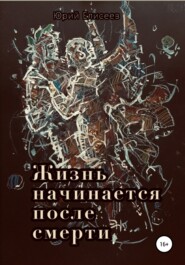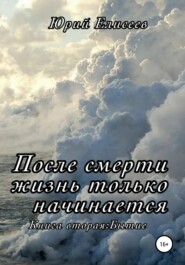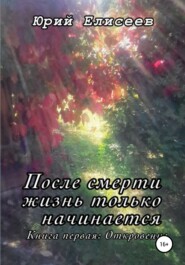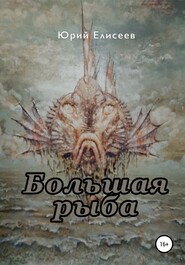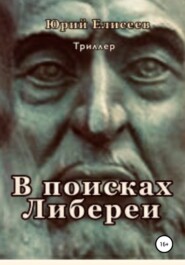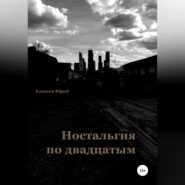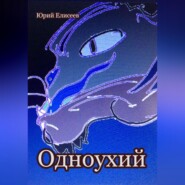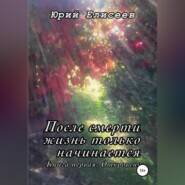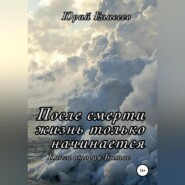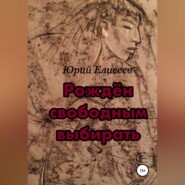По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Оглянитесь сотник Черкашин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оглянитесь сотник Черкашин
Юрий Павлович Елисеев
В романе описана история казацкого рода Черкашиных, которая могла бы уместиться в трех словах на гравировке шашки прадеда "За Бога, Царя и Отечество". Терские казаки со времён Ивана Грозного оберегали южные рубежи Московии. Старогладовская, Чевлёная, Нурская – первые станицы на Терской линии Северного кавказа. Их история – это история служения отечеству, вере и царю..
Юрий Елисеев
Оглянитесь сотник Черкашин
«Молим Тя, Преблагий Господи,
Помяни во Царствии Твоем
Российских воинов, на брани убиенных.
Упокой Господи души наших солдат
И сотвори им вечную память».
(Молитва о погибших воинах)
Пролог
К концу жизни Филиппу Черкашину всё чаще, с навязчивым постоянством, снился один и тот же сон о событиях тридцатилетней давности, вернее того дня, когда он с горсткой своего отряда, был окружён недалеко от китайской границы конным корпусом под командованием красного командира Сергея Лазо. В тот день сотня, прикрывавшая отступление генерала Семёнова, приняла свой последний бой возле станции Мациевской, и потеряв три четверти бойцов, откатилась вплотную к границе с Манжурией. Остатки отряда, измотанные в неравной схватке с «остроголовыми», таяли на глазах. Падали один за другим казаки-станичники. В пылу схватки сотник углядел на пригорке у большого камня подхорунжия Галуненкова, который, собрав вокруг себя свору красных конников, словно в горячке, рубился из последних сил. Он был смертельно бледен и едва держался в седле. Чуть дальше, братья Казаченковы, непревзойдённые в джигитовке, уложив вокруг себя гору трупов, упали после выстрелов винтовок. Следом за ними, под копьями, пали трое казаков Каргалинской станицы: Рябов, Зеленский и Макаров. Увидев это, Галуненков, собрав остатки сил закричал дурным, полным смертной тоски, голосом: – «Уходи Филлипп Иваныч, уходи сотник!». После этого, потеряв сознание, он сполз с лошади и исчез под копытами окруживших его конников.
Тогда Филипп буквально прорубился сквозь наседавших на него «остроголовых», продрался в образовавшуюся брешь и бешеным намётом, прижавшись к шее коня, рванул по дну оврага в сторону спасительной реки и уже на сопредельной территории, выбравшись на берег, придержал бесившегося Бурана, развернулся, и грозя плёткой застывшим вдалеке фигурам в будёновках, крикнул: – «Я вернусь! Ох, как я вернусь!».
Савелий
Глава 1
В детстве, высохший как кора тутового дерева, девяностолетний Савелий Черкашин рассказывал маленькому Филе историю о том, как и откуда пошла порода Черкашиных. Как случилась, что русские людишки, исторгнутые из чрева России, добрались до этих мест и осели на левом берегу Терека. Они стали называть себя Гребенцами. Людишки эти были весьма лихие и вполне подходящие для опасной жизни на южных границах Московии. Здесь они нашли свою новую родину. Жившие на правом берегу чеченцы достаточно быстро распознали в них родственные разбойничьи души и между двумя терскими берегами образовался шаткий мир, время от времени переходящий в жестокие стычки. Повествуя об этом, Савелий, видимо, страдающий несварением, тяжёлыми ветрами, исторгаемыми из измученного чрева, вонял препротивно, и Филиппок, зажимая нос, прятал лицо между колен. Прадед, подпускал ещё и смеялся от души, глядя на страдающего потомка. От этого глаза его слезились, он кутался в облезлый полушубок, кряхтел и сморкался. Наконец, вдоволь покуражившись, довольный старик продолжал рассказ. О далёких предках, Гребенских казаках, которые издревле заселяли эту землю, Савелий знал мало. Следы их терялись в глубине веков, и лишь о прадеде своём, Черкасе Одноглазом, Савелий слышал более-менее достоверную историю. Рассказывали, что в станице, где жил Черкас, среди казаков-станичников, тот слыл молчаливым, замкнутым, скорым на расправу казаком. Он держался особняком, и без боязни, часто пропадал на правом берегу, где водил дружбу с Азаматом, чеченцем, переселившимся с гор в долину. Обитатели чеченского поселения, время от времени нападавшие на гребенские станицы, поначалу удивлялись визитам казака, но постепенно привыкли и только мальчишки кидали вслед ему камни, кричали: «урус кирдык!» и делали характерные жесты у горла.
Азамат принадлежал к древнему тейпу Беной. Среди других тейпов беноевцы имели репутацию людей упрямых, имеющих на всё своё мнение. Ходила такая шутка: – «Только беноевец мог поставить мельницу на сухом ручье». Представители тейпа понимали это как признание твердости свои убеждений. С Азаматом Черкас познакомился в Кизляре, на осенней ярмарке, где они собирались купить хороших коней и амуницию. Оба долго бродили по рынку, приглядываясь к товарам и наконец нашли то, что было нужно. Коней, седла, уздечки и прочую мелочь необходимую всаднику. Армянин, который продавал всё это скопом, явно лукавил насчёт крепости сбруи и возраста коней. Когда вскрылась ветхость амуниции, а кони оказались далеко не трёхлетками, Черкас с чеченцем так «наехали» на продавца, что тот, здорово избитый и напуганный, в итоге отдал товар почти бесплатно. Домой они вернулись вместе. Так началось знакомство чеченца и гребенца, представителей двух непримиримых национальностей, предки которых всегда враждовали друг с другом. Но, не смотря на разницу в вере и обычаях, они были очень похожи в своей варварской жажде разрушения. Натура их требовала больших потрясений, стычек, войн с врагами, которых всегда было предостаточно, и даже в отсутствие большой ярко выраженной идеи, они сами являлись запалом и бомбой, способные взорвать все общественные устои. В мире, где убийство являлось обычным делом, где вырезались целые селения и людей, как скот, продавали на рынках, жить по другому было нельзя. Так жили все. И не мыслили иного. История рассказанная древним старцем много лет назад врезалась в память маленькому Филиппу Черкашину так глубоко, что по прошествии этой уймы лет, когда он даже не мог вспомнить сколько ему было в то время, он помнил рассказ прадеда слово в слово…
Когда дружба переросла в нечто большее, Черкас взял в жены сестру Азамата Хаву. Беноевцы и станичники отнеслись к этому союзу с настороженным нейтралитетом, правда, с тех пор, стали сторониться обоих. Так они и жили: непризнанные своими – по сути изгои, но и не изгнанные из своих общин. Время от времени кунаки уходили в набеги в ногайские степи, где воровали лошадей и продавали их в Дербенте и Кизляре. Иногда они наведывались в поселения калмыков, откуда как-то раз пригнали двух верблюдов. Над животными смеялись мальчишки в обоих сёлах и называли животных горбатыми конями. Кунаки хотели уже пустить верблюдов на мясо, но тут грузинский князь по фамилии Багратиони, бывший в этих местах проездом из Кизляра в Тифлис, приметил чудных животных на переправе через Терек и предложил купить их за десять рублей. Кунаки согласились не торгуясь. В дальнейшем, уходя в набег они уже не хватали всё без разбора, а выбирали только то, что можно было быстро продать на рынках Дербента, Моздока и Кизляра. Однажды в стычке с воинственными ногайцами, загнанные в солончаки, потеряв коней, товарищи стали спина к спине и около получаса отбивались от целой оравы кочевников, пока обессиленные и израненные не упали на землю. Их скрутили, и привязав к хвостам лошадей, погнали в степь, в Малый Ногайский Каганат, где, за убийства и грабежи каждому полагалась смерть.
Но пленённых не убили. Видимо в этот раз звёзды, вопреки здравому смыслу, сошлись для них в благоприятной позиции. Местный бай, допросив обоих, не нашёл ничего лучше, как сделать их заложниками, чтобы при случае продать иранцам или обменять на пленных ногайцев, захваченных казаками. Просидев неделю в выгребной яме, кунаки в одну из ночей выбрались наружу, вытащив камни из стены и использовав углубления, как ступени.
«Во как! Энто ж, как приспичило – чтобы голыми руками выгрызать каменюки?!» – хриплым замогильным голосом вопрошал старый казак, тыча клюкой в пыльную землю у ног правнука, словно именно он должен был ему это обьяснить. На это Филя ничего не имел ответить. Он понимал, что выбраться было не просто, но догадывался, что сидеть в дерьме было ещё сложнее.
Как бы там ни было, друзья вернулись домой, живые и здоровые. Какое-то время, после плена они жили смирно. Зимой Черкас занялся хозяйством: закончил крышу на хлев, новые ворота с калиткой и резными навершиями, крыльцо для дома, и на радость жене, соорудил лавки в хате. Хотел уже заняться загоном для скота, но пришло указание от войскового старшины явиться на сборы и Черкас по весне, оставив на хозяйстве Хаву, которая была к тому времени на сносях, вместе с пятью казаками отправился в Кизляр, где располагались основные силы Гребенского войска. Следом увязался и Азамат. У него были свои резоны: отправляясь в путь, чеченец всерьёз надеялся стать казаком – его неуёмная агрессивная натура жаждала постоянного вызова, требовала войны и драки. Так как в Гребенские казаки принимали только православных, Азамат наделялся вступить в Терское войско. К вечеру, преодолев около восьмидесяти вёрст, уже на подъезде к крепости, путники встретили совсем не дружественный отряд ногайцев, которые преследуя их, что-то вызывающе кричали вслед, пока, наконец, не показались стены Кизлярской цитадели с бастионами и башнями окружённые земляным рвом. Кочевники пожелав на прощанье казакам «крестить свой зад», исчезли за холмами. Перебравшись по мосту через ров у южных ворот путники выехали на широкую площадь уставленную повозками, расположившимися возле каменной соборной церкви и помещения гарнизонной команды. Среди повозок и навесов, палаток и шатров сновали казаки, астраханцы, крещённые кабардинцы и осетины, чеченцы, кумыки и ногайцы – всё это теперь составляло костяк терско-кизлярского войска, собранного здесь после подписания Гянджинского договора. По этому договору войска и жители, ранее находившиеся в крепости Святого креста на реке Сулак, были переведены на левый берег Терека в поселение Кизляр. Десять лет назад твердыня Святого креста была уничтожена. Так захотел Надир-шах и в ответ на это, вновь построенная крепость Кизляр стала одним из первых форпостов России на Кавказе Строгая архитектура цитадели, построенная в виде звезды с пятью бастионами и тремя равелинами, с комендантскими постройками, церковью и лазаретом, была нарушена приехавшими на сборы служивыми людьми с их палатками, кострами и повозками. Пробравшись между ними, стараясь не наступать на сидящих на земле людей, Черкас и Азамат с прибывшими казаками направились к дому коменданта в канцелярию к войсковому писарю. В большом помещении, состоящим из двух комнат, у конторки сидел грузный писарь в светлой черкеске и белой папахе. Оприходовав очередных казаков, он кивком подозвал Черкаса, и после обычных вопросов, протянув бумагу, в которой надо было поставить крест напротив имени, пояснил: – «Теперь ты будешь зваться Черкашин. Это будет твоя фамилия. Имя можешь выбрать сам». «Это как?» – спросил удивлённый казак. – «А как тебя нарекли при крещении?» «Иоан» – ответил Черкас. «Значит будешь Иван Черкашин».
В девяносто пять Савелий совсем согнулся до земли и ходил опираясь на палку, отчего издалека он походил на большую лысую обезьяну, которую Филипп видел во Владикавказе у татар, приехавших торговать из Крыма. Движения его были тяжелы и тягучи, словно старик пробирался в густой, заросшей ряской заводи. Обычно выйдя из хаты за ворота, и с трудом добравшись до скамьи стоявшей под тенью акации, Савелий стелил дерюжку, кряхтя и постанывая, садился на скамью, и опершись на клюку, в прострации, смотрел через вал, увитый колючей изгородью, в сторону Яхтинского урочища.
«Как я бил перса, я тябе разве не рассказывал?» – вопрошал самого себя Савелий. – «Ну так слухай дальше.…».
Так было каждый раз, когда он выходил посидеть за двором. Старик не то чтобы выжил из ума, скорее подводил итог жизни. Докладывал самому себе… как военный своему начальству. Он уже плохо видел: оба глаза, поражённые катарактой, смотрели неподвижно, различая только большие формы. Наверно поэтому старик беспрерывно говорил, компенсируя этим невозможность видеть окружающее в деталях. Он рассказывал себе свою прошлую жизнь.
Филипп знал эти истории. Он садился рядом с ослепшим прадедом и в очередной раз слушал монотонный голос, который, рассказывая о далёких событиях, уводил его к дорогам и полям войны…
Когда Савелию Черкашину пришло время отправляться на службу, в Европе шла война, всё ближе подкатываясь к западным границам России. С юга Иран и турки, не скрывая своих притязаний на Закавказье, провоцировали всё новые конфликты, которые перерастали в локальные войны. За всем этим проглядывались ушки Англии, которая создавая напряжение, как всегда решала свои задачи чужими руками. Эта престарелая, чванливая дама, не утруждая себя этическими нормами, не привыкла церемониться с населением своих колоний и если её методы расценивались другими как подлость, для неё – они были обычным делом.
Савелия вместе с прибывшим станичниками записали в Гребенское войско численностью в пятьсот служилых казаков, и после формирования в Кизляре отправили вместе пехотными и кавалерийскими драгунскими полками на линию боевых действий воевать с шейхом Али-ханом. Молодого казака определили под начало унтеру, которого звали Дормидонтом по фамилии Карпин. Был он родом из Старогладовской, станицы находящейся недалеко от Щедринской, заложенной одной из первых на Тереке.
Преодолев расстояние от Кизляра до Дербентского ханства, Каспийский корпус приняв по пути под свои знамёна войска местных царьков, на исходе четвёртого дня, влился в передовой отряд генерала Савельева стоявший под Дербентской крепостью. Казаки-гребенцы расположились в позади драгунского полка, расседлали коней и стали готовиться к ночи. Костров не зажигали. Сказано было – не показывать осажденным численность и расположение вновь прибывший войск. Савелий, раскатав бурку, улёгся рядом с Дормидонтом, и чувствуя потребность говорить, начал расспрашивать урядника о военных премудростях предстоящего штурма. Урядник уже отличился при обороне Кизляра от ногайского хана и даже был ранен. На вопрос, как там в бою? Ответил, хмуря брови: «Ты не думай о том, что может случиться – делай, что приказывают и будь, что будет. Твой жребий уже вытянут, судьба написана и только бог знает, что будет завтра». Он охотно рассказал Савелию, как правильно и быстро передвигаться и заряжать ружьё, чтобы во время штурма не попасть под обстрел.
Ночью Савелий не спал. В голове возникали одна за другой картины боя. Со стен крепости, изрыгая убийственный огонь, садили пушки и чёрный дым застилал солнце, и чёрной сажей опускался на лица и мундиры солдат, на покорёженные лафеты, разорванные знамёна. В беззвучном чередовании кадров сражения падали на землю драгуны, солдаты, казаки и кони. Их обезображенные, окровавленные трупы валялись повсюду, являя собой чудовищную декорацию апофеоза смерти. Картины сменяли друг друга снова и снова, будто по кругу… Похоже Савелий всё таки заснул, потому что почувствовал, как кто-то теребит его за плечо. Он открыл глаза и увидел в предрассветной мгле лицо Дормидонта, а за ним размытые фигуры казаков. «Вставай вояка, пошли на построение». – иронично произнёс унтер. – «Похоже ты всю ночь провоевал». «Да уж, кричал что надо». – подтвердил белобрысый молодой казак, ночевавший рядом с ним, так же как и он, находившийся под присмотром старшего. Он протянул руку и сказал: – «Тёма из Каргалинской». «Савелий», – представился Савелий, – «из Червлёной». Большего они не успели сказать друг другу – раздались звуки труб и казаки побежали строиться.
Первый бой, первый приступ, первый штурм прошёл как во сне. Савелий делал всё автоматически: не чувствовал ни омертвевших, по самые бубенцы ног, ни ватных рук, не слышал самого себя, орущего во всю глотку истошное: – «Ура!!», не слышал грохота пушек, ударов сабель, стрельбы и стонов. Он бежал и бежал, с шашкой наголо, имея перед собой единственный ориентир – башню.. Только вдруг, на полушаге понял, что всё прекратилось. Наступила тишина, в которой явственно прозвучали звуки труб и войска волнами откатились от крепости. На позиции Савелию рассказали, что произошло. После обстрела города, войска пошли на штурм, который был остановлен огнём из передовой башни. Получив серьёзные потери, генерал-аншеф Зубов, отвёл войска на прежнюю позицию, чтобы произвести закладку осадных батарей. В наступившей передышке похоронная команда собрала погибших и раненых. Более ста человек были убиты. На следующий день их внесли в списки, и после отпевания, закопали в одной могиле для всех. Увы, среди них был и Артём из станицы Каргалинской.
Через пять дней в десять часов утра началась бомбардировка и одновременно штурм передовой башни, который происходил на виду у всего города. Генерал Булгаков, обращаясь к войску, отметил, что взять башню надо непременно, так как неудача только добавит оптимизма защитникам Дербента.
Перед штурмом, глядя на парящего над городом беркута, Савелий загадал, что осаждавших ждёт успех и башня будет взята, если птица, несмотря на разрывы гранат, не улетит в горы. Под звуки выстрелов, войска вновь пошли на приступ и молодому казаку было уже не до беркута: он опять бежал вниз к главной башне перепрыгивая через валуны, и выставив шашку, орал вместе со всеми: «Ура!». Когда отряд ворвался в башню, в начавшейся рубке, сквозь дым и огонь ружей, Савелий увидел, как передние казаки, вклинившись в ряды защитников башни, начали теснить врага на верхние этажи. Дробно и звонко застучали клинки, окровавленные тела скатывались по ступеням вниз. Он устремился за урядником, стараясь не отстать: справедливо полагая, что рядом с ним не так опасно. Ноги то и дело попадали во что-то мягкое, но Савелий не смотрел вниз. Поднимаясь вверх по лестнице, он глядел вверх, туда, где за маячившими спинами казаков, теснивших врага, метались штандарты и знамёна Али-Паши. Последние ступени он проделал в плотной толпе, орущей что-то невообразимое на нескольких языках. Забежав на второй этаж, он отмахнулся от прыгнувшего на урядника канонира в синих шельварах и удивился, когда увидел фонтан крови из под платка «басурманина». Он не сразу понял, что убил его, а когда увидел благодарное лицо Дормидонта, почувствовал некую гордость и удовлетворение. Захотелось убить ещё. Он рванулся в гущу боя, собираясь сокрушить каждого, кто попадётся под руку, но в это время, старший офицер персов зычно закричал что-то по своему и воины Али-Хана, побросав оружие, сдались. Башня была взята. Сдавшихся связали, вывели наружу и отправили в лагерь. Из ста оборонявшихся в живых осталось меньше половины и часть из них была ранена. Возвращаясь вместе с пленными в лагерь, Савелий взглянул на небо и улыбнулся – птица продолжала кружить над городом. В тот же день напротив замка Нарын-Кале, прямо у городских стен были вырыты траншеи, подведены пушки и началась бомбардировка. К полудню следующего дня русские «единороги», выпустив четыре сотни ядер, разрушили часть стены и угол башни. В образовавшийся проём генерал Булгаков, с удовлетворением наблюдавший панику царившую в городе, произнёс: «Давно бы так надо было». К полудню осажденные выкинули белый флаг, а вслед за тем в русский лагерь явился и Шейх Али-Хан. Победа была полной. После пленения правителя Кубинского ханства, русская армия достаточно быстро захватила Баку, Кубу и Шемаху. Можно было надолго утвердиться в Закавказье, но при вступлении на престол Павла 1, русские войска к зиме 1796 года оставили все завоёванные территории и были вынуждены отступать к Терской линии. Завоёванные ханства были возвращены Ирану. Так закончилась Русско-Персидская война 1796 года.
Глава 2
После окончания войны и подписания позорного мира казаки вернулись домой. Пройдя лесом Яхтинское урочище, они приблизились к караульному посту на южной границе станицы. Она встретила казаков неприветливым холодом крещенского января, без снега, без солнца, с замёрзшим лужами и лысыми буграми разбросанными по округе. У околицы возле рощицы одичавшей шапталы навстречу станичникам выехал старый Нил. Он направлялся в Калиновскую навестить брата, и увидев земляков, привстал на козлах.
– Никак Макей! – воскликнул старик, признав своего соседа – И ты здесь, Фёдор! А это хто? Черкашин что ли? На побывку, али как?.. Али война закончилась!?
Казаки придержали коней и окружили повозку.
– Насовсем. Какие новости, старик? – глухо подал голос Макей. Он был простужен и кутался в башлык. Казаки подъехали поближе к старику.
– А какие наши новости. Гаврила Быхов помер на Николу, давеча Лукерья Пономарь приставилась, упокой господь их души. Я вот к брату еду: совсем говорят плох.
Старый Нил вздохнул и завершил обзор новостей.
– А так всё ничего.. жить можно..
Распрощавшись с Нилом станичники поспешили по домам. У Савелия сердце, ёкнувши, забилось сильнее, когда переступив порог, он вошёл в дом. После яркого дня Савелий не сразу углядел в полутемной хате, сидевшего за столом отца в домашней рубахе, который что-то строго выговаривал младшему брату Саньке. Увидев Савелия, Иван Филиппович осёкся на полуслове и умолк. Санька, воспользовавшись замешательством отца, сорвался со скамьи с криком: «Сава!», подбежал к брату и уткнулся лбом в холодную черкеску. Отец, наконец вышел из ступора. Он вложил изувеченную руку в повязку, и подойдя к сыну, поприветствовал.
– Отвоевались…
Савелий хмуро кивнул.
Иван Филиппович здоровой рукой притянул сына к себе и обнял.
– Ничего, не впервой.. Это не наш позор..
Савелий скинул бурку, снял башлык и папаху, всё это сложил на лавку, и перекрестившись, сел у стола. Спросил о матери.
– Она пошла к бабке Ульяне, тётке своей. Скоро обещала быть. – сказал отец и обратился к Саньку.
– Сбегай, поторопи её. Скажи Сава приехал!
Сашка, не сводивший восхищённых глаз с брата, подхватив шапку и зипун скрылся в сенях. В хате наступила неловкая тишина, только на стене, тихо тикали ходики привезённые Иваном десять лет назад из Германского похода, да шуршали мыши под кровлей, пришедшие с полей зимовать в тепле и достатке. Отец не скрывал переполнявшей его радости, несколько раз открывал рот, чтобы начать разговор, но не находя нужных слов, только поправлял висящую плетью руку.
– Похудел однако… – сказал Иван Филиппович, вспомнив, что в таких случаях начинают с погоды и вопросов здоровья.
Юрий Павлович Елисеев
В романе описана история казацкого рода Черкашиных, которая могла бы уместиться в трех словах на гравировке шашки прадеда "За Бога, Царя и Отечество". Терские казаки со времён Ивана Грозного оберегали южные рубежи Московии. Старогладовская, Чевлёная, Нурская – первые станицы на Терской линии Северного кавказа. Их история – это история служения отечеству, вере и царю..
Юрий Елисеев
Оглянитесь сотник Черкашин
«Молим Тя, Преблагий Господи,
Помяни во Царствии Твоем
Российских воинов, на брани убиенных.
Упокой Господи души наших солдат
И сотвори им вечную память».
(Молитва о погибших воинах)
Пролог
К концу жизни Филиппу Черкашину всё чаще, с навязчивым постоянством, снился один и тот же сон о событиях тридцатилетней давности, вернее того дня, когда он с горсткой своего отряда, был окружён недалеко от китайской границы конным корпусом под командованием красного командира Сергея Лазо. В тот день сотня, прикрывавшая отступление генерала Семёнова, приняла свой последний бой возле станции Мациевской, и потеряв три четверти бойцов, откатилась вплотную к границе с Манжурией. Остатки отряда, измотанные в неравной схватке с «остроголовыми», таяли на глазах. Падали один за другим казаки-станичники. В пылу схватки сотник углядел на пригорке у большого камня подхорунжия Галуненкова, который, собрав вокруг себя свору красных конников, словно в горячке, рубился из последних сил. Он был смертельно бледен и едва держался в седле. Чуть дальше, братья Казаченковы, непревзойдённые в джигитовке, уложив вокруг себя гору трупов, упали после выстрелов винтовок. Следом за ними, под копьями, пали трое казаков Каргалинской станицы: Рябов, Зеленский и Макаров. Увидев это, Галуненков, собрав остатки сил закричал дурным, полным смертной тоски, голосом: – «Уходи Филлипп Иваныч, уходи сотник!». После этого, потеряв сознание, он сполз с лошади и исчез под копытами окруживших его конников.
Тогда Филипп буквально прорубился сквозь наседавших на него «остроголовых», продрался в образовавшуюся брешь и бешеным намётом, прижавшись к шее коня, рванул по дну оврага в сторону спасительной реки и уже на сопредельной территории, выбравшись на берег, придержал бесившегося Бурана, развернулся, и грозя плёткой застывшим вдалеке фигурам в будёновках, крикнул: – «Я вернусь! Ох, как я вернусь!».
Савелий
Глава 1
В детстве, высохший как кора тутового дерева, девяностолетний Савелий Черкашин рассказывал маленькому Филе историю о том, как и откуда пошла порода Черкашиных. Как случилась, что русские людишки, исторгнутые из чрева России, добрались до этих мест и осели на левом берегу Терека. Они стали называть себя Гребенцами. Людишки эти были весьма лихие и вполне подходящие для опасной жизни на южных границах Московии. Здесь они нашли свою новую родину. Жившие на правом берегу чеченцы достаточно быстро распознали в них родственные разбойничьи души и между двумя терскими берегами образовался шаткий мир, время от времени переходящий в жестокие стычки. Повествуя об этом, Савелий, видимо, страдающий несварением, тяжёлыми ветрами, исторгаемыми из измученного чрева, вонял препротивно, и Филиппок, зажимая нос, прятал лицо между колен. Прадед, подпускал ещё и смеялся от души, глядя на страдающего потомка. От этого глаза его слезились, он кутался в облезлый полушубок, кряхтел и сморкался. Наконец, вдоволь покуражившись, довольный старик продолжал рассказ. О далёких предках, Гребенских казаках, которые издревле заселяли эту землю, Савелий знал мало. Следы их терялись в глубине веков, и лишь о прадеде своём, Черкасе Одноглазом, Савелий слышал более-менее достоверную историю. Рассказывали, что в станице, где жил Черкас, среди казаков-станичников, тот слыл молчаливым, замкнутым, скорым на расправу казаком. Он держался особняком, и без боязни, часто пропадал на правом берегу, где водил дружбу с Азаматом, чеченцем, переселившимся с гор в долину. Обитатели чеченского поселения, время от времени нападавшие на гребенские станицы, поначалу удивлялись визитам казака, но постепенно привыкли и только мальчишки кидали вслед ему камни, кричали: «урус кирдык!» и делали характерные жесты у горла.
Азамат принадлежал к древнему тейпу Беной. Среди других тейпов беноевцы имели репутацию людей упрямых, имеющих на всё своё мнение. Ходила такая шутка: – «Только беноевец мог поставить мельницу на сухом ручье». Представители тейпа понимали это как признание твердости свои убеждений. С Азаматом Черкас познакомился в Кизляре, на осенней ярмарке, где они собирались купить хороших коней и амуницию. Оба долго бродили по рынку, приглядываясь к товарам и наконец нашли то, что было нужно. Коней, седла, уздечки и прочую мелочь необходимую всаднику. Армянин, который продавал всё это скопом, явно лукавил насчёт крепости сбруи и возраста коней. Когда вскрылась ветхость амуниции, а кони оказались далеко не трёхлетками, Черкас с чеченцем так «наехали» на продавца, что тот, здорово избитый и напуганный, в итоге отдал товар почти бесплатно. Домой они вернулись вместе. Так началось знакомство чеченца и гребенца, представителей двух непримиримых национальностей, предки которых всегда враждовали друг с другом. Но, не смотря на разницу в вере и обычаях, они были очень похожи в своей варварской жажде разрушения. Натура их требовала больших потрясений, стычек, войн с врагами, которых всегда было предостаточно, и даже в отсутствие большой ярко выраженной идеи, они сами являлись запалом и бомбой, способные взорвать все общественные устои. В мире, где убийство являлось обычным делом, где вырезались целые селения и людей, как скот, продавали на рынках, жить по другому было нельзя. Так жили все. И не мыслили иного. История рассказанная древним старцем много лет назад врезалась в память маленькому Филиппу Черкашину так глубоко, что по прошествии этой уймы лет, когда он даже не мог вспомнить сколько ему было в то время, он помнил рассказ прадеда слово в слово…
Когда дружба переросла в нечто большее, Черкас взял в жены сестру Азамата Хаву. Беноевцы и станичники отнеслись к этому союзу с настороженным нейтралитетом, правда, с тех пор, стали сторониться обоих. Так они и жили: непризнанные своими – по сути изгои, но и не изгнанные из своих общин. Время от времени кунаки уходили в набеги в ногайские степи, где воровали лошадей и продавали их в Дербенте и Кизляре. Иногда они наведывались в поселения калмыков, откуда как-то раз пригнали двух верблюдов. Над животными смеялись мальчишки в обоих сёлах и называли животных горбатыми конями. Кунаки хотели уже пустить верблюдов на мясо, но тут грузинский князь по фамилии Багратиони, бывший в этих местах проездом из Кизляра в Тифлис, приметил чудных животных на переправе через Терек и предложил купить их за десять рублей. Кунаки согласились не торгуясь. В дальнейшем, уходя в набег они уже не хватали всё без разбора, а выбирали только то, что можно было быстро продать на рынках Дербента, Моздока и Кизляра. Однажды в стычке с воинственными ногайцами, загнанные в солончаки, потеряв коней, товарищи стали спина к спине и около получаса отбивались от целой оравы кочевников, пока обессиленные и израненные не упали на землю. Их скрутили, и привязав к хвостам лошадей, погнали в степь, в Малый Ногайский Каганат, где, за убийства и грабежи каждому полагалась смерть.
Но пленённых не убили. Видимо в этот раз звёзды, вопреки здравому смыслу, сошлись для них в благоприятной позиции. Местный бай, допросив обоих, не нашёл ничего лучше, как сделать их заложниками, чтобы при случае продать иранцам или обменять на пленных ногайцев, захваченных казаками. Просидев неделю в выгребной яме, кунаки в одну из ночей выбрались наружу, вытащив камни из стены и использовав углубления, как ступени.
«Во как! Энто ж, как приспичило – чтобы голыми руками выгрызать каменюки?!» – хриплым замогильным голосом вопрошал старый казак, тыча клюкой в пыльную землю у ног правнука, словно именно он должен был ему это обьяснить. На это Филя ничего не имел ответить. Он понимал, что выбраться было не просто, но догадывался, что сидеть в дерьме было ещё сложнее.
Как бы там ни было, друзья вернулись домой, живые и здоровые. Какое-то время, после плена они жили смирно. Зимой Черкас занялся хозяйством: закончил крышу на хлев, новые ворота с калиткой и резными навершиями, крыльцо для дома, и на радость жене, соорудил лавки в хате. Хотел уже заняться загоном для скота, но пришло указание от войскового старшины явиться на сборы и Черкас по весне, оставив на хозяйстве Хаву, которая была к тому времени на сносях, вместе с пятью казаками отправился в Кизляр, где располагались основные силы Гребенского войска. Следом увязался и Азамат. У него были свои резоны: отправляясь в путь, чеченец всерьёз надеялся стать казаком – его неуёмная агрессивная натура жаждала постоянного вызова, требовала войны и драки. Так как в Гребенские казаки принимали только православных, Азамат наделялся вступить в Терское войско. К вечеру, преодолев около восьмидесяти вёрст, уже на подъезде к крепости, путники встретили совсем не дружественный отряд ногайцев, которые преследуя их, что-то вызывающе кричали вслед, пока, наконец, не показались стены Кизлярской цитадели с бастионами и башнями окружённые земляным рвом. Кочевники пожелав на прощанье казакам «крестить свой зад», исчезли за холмами. Перебравшись по мосту через ров у южных ворот путники выехали на широкую площадь уставленную повозками, расположившимися возле каменной соборной церкви и помещения гарнизонной команды. Среди повозок и навесов, палаток и шатров сновали казаки, астраханцы, крещённые кабардинцы и осетины, чеченцы, кумыки и ногайцы – всё это теперь составляло костяк терско-кизлярского войска, собранного здесь после подписания Гянджинского договора. По этому договору войска и жители, ранее находившиеся в крепости Святого креста на реке Сулак, были переведены на левый берег Терека в поселение Кизляр. Десять лет назад твердыня Святого креста была уничтожена. Так захотел Надир-шах и в ответ на это, вновь построенная крепость Кизляр стала одним из первых форпостов России на Кавказе Строгая архитектура цитадели, построенная в виде звезды с пятью бастионами и тремя равелинами, с комендантскими постройками, церковью и лазаретом, была нарушена приехавшими на сборы служивыми людьми с их палатками, кострами и повозками. Пробравшись между ними, стараясь не наступать на сидящих на земле людей, Черкас и Азамат с прибывшими казаками направились к дому коменданта в канцелярию к войсковому писарю. В большом помещении, состоящим из двух комнат, у конторки сидел грузный писарь в светлой черкеске и белой папахе. Оприходовав очередных казаков, он кивком подозвал Черкаса, и после обычных вопросов, протянув бумагу, в которой надо было поставить крест напротив имени, пояснил: – «Теперь ты будешь зваться Черкашин. Это будет твоя фамилия. Имя можешь выбрать сам». «Это как?» – спросил удивлённый казак. – «А как тебя нарекли при крещении?» «Иоан» – ответил Черкас. «Значит будешь Иван Черкашин».
В девяносто пять Савелий совсем согнулся до земли и ходил опираясь на палку, отчего издалека он походил на большую лысую обезьяну, которую Филипп видел во Владикавказе у татар, приехавших торговать из Крыма. Движения его были тяжелы и тягучи, словно старик пробирался в густой, заросшей ряской заводи. Обычно выйдя из хаты за ворота, и с трудом добравшись до скамьи стоявшей под тенью акации, Савелий стелил дерюжку, кряхтя и постанывая, садился на скамью, и опершись на клюку, в прострации, смотрел через вал, увитый колючей изгородью, в сторону Яхтинского урочища.
«Как я бил перса, я тябе разве не рассказывал?» – вопрошал самого себя Савелий. – «Ну так слухай дальше.…».
Так было каждый раз, когда он выходил посидеть за двором. Старик не то чтобы выжил из ума, скорее подводил итог жизни. Докладывал самому себе… как военный своему начальству. Он уже плохо видел: оба глаза, поражённые катарактой, смотрели неподвижно, различая только большие формы. Наверно поэтому старик беспрерывно говорил, компенсируя этим невозможность видеть окружающее в деталях. Он рассказывал себе свою прошлую жизнь.
Филипп знал эти истории. Он садился рядом с ослепшим прадедом и в очередной раз слушал монотонный голос, который, рассказывая о далёких событиях, уводил его к дорогам и полям войны…
Когда Савелию Черкашину пришло время отправляться на службу, в Европе шла война, всё ближе подкатываясь к западным границам России. С юга Иран и турки, не скрывая своих притязаний на Закавказье, провоцировали всё новые конфликты, которые перерастали в локальные войны. За всем этим проглядывались ушки Англии, которая создавая напряжение, как всегда решала свои задачи чужими руками. Эта престарелая, чванливая дама, не утруждая себя этическими нормами, не привыкла церемониться с населением своих колоний и если её методы расценивались другими как подлость, для неё – они были обычным делом.
Савелия вместе с прибывшим станичниками записали в Гребенское войско численностью в пятьсот служилых казаков, и после формирования в Кизляре отправили вместе пехотными и кавалерийскими драгунскими полками на линию боевых действий воевать с шейхом Али-ханом. Молодого казака определили под начало унтеру, которого звали Дормидонтом по фамилии Карпин. Был он родом из Старогладовской, станицы находящейся недалеко от Щедринской, заложенной одной из первых на Тереке.
Преодолев расстояние от Кизляра до Дербентского ханства, Каспийский корпус приняв по пути под свои знамёна войска местных царьков, на исходе четвёртого дня, влился в передовой отряд генерала Савельева стоявший под Дербентской крепостью. Казаки-гребенцы расположились в позади драгунского полка, расседлали коней и стали готовиться к ночи. Костров не зажигали. Сказано было – не показывать осажденным численность и расположение вновь прибывший войск. Савелий, раскатав бурку, улёгся рядом с Дормидонтом, и чувствуя потребность говорить, начал расспрашивать урядника о военных премудростях предстоящего штурма. Урядник уже отличился при обороне Кизляра от ногайского хана и даже был ранен. На вопрос, как там в бою? Ответил, хмуря брови: «Ты не думай о том, что может случиться – делай, что приказывают и будь, что будет. Твой жребий уже вытянут, судьба написана и только бог знает, что будет завтра». Он охотно рассказал Савелию, как правильно и быстро передвигаться и заряжать ружьё, чтобы во время штурма не попасть под обстрел.
Ночью Савелий не спал. В голове возникали одна за другой картины боя. Со стен крепости, изрыгая убийственный огонь, садили пушки и чёрный дым застилал солнце, и чёрной сажей опускался на лица и мундиры солдат, на покорёженные лафеты, разорванные знамёна. В беззвучном чередовании кадров сражения падали на землю драгуны, солдаты, казаки и кони. Их обезображенные, окровавленные трупы валялись повсюду, являя собой чудовищную декорацию апофеоза смерти. Картины сменяли друг друга снова и снова, будто по кругу… Похоже Савелий всё таки заснул, потому что почувствовал, как кто-то теребит его за плечо. Он открыл глаза и увидел в предрассветной мгле лицо Дормидонта, а за ним размытые фигуры казаков. «Вставай вояка, пошли на построение». – иронично произнёс унтер. – «Похоже ты всю ночь провоевал». «Да уж, кричал что надо». – подтвердил белобрысый молодой казак, ночевавший рядом с ним, так же как и он, находившийся под присмотром старшего. Он протянул руку и сказал: – «Тёма из Каргалинской». «Савелий», – представился Савелий, – «из Червлёной». Большего они не успели сказать друг другу – раздались звуки труб и казаки побежали строиться.
Первый бой, первый приступ, первый штурм прошёл как во сне. Савелий делал всё автоматически: не чувствовал ни омертвевших, по самые бубенцы ног, ни ватных рук, не слышал самого себя, орущего во всю глотку истошное: – «Ура!!», не слышал грохота пушек, ударов сабель, стрельбы и стонов. Он бежал и бежал, с шашкой наголо, имея перед собой единственный ориентир – башню.. Только вдруг, на полушаге понял, что всё прекратилось. Наступила тишина, в которой явственно прозвучали звуки труб и войска волнами откатились от крепости. На позиции Савелию рассказали, что произошло. После обстрела города, войска пошли на штурм, который был остановлен огнём из передовой башни. Получив серьёзные потери, генерал-аншеф Зубов, отвёл войска на прежнюю позицию, чтобы произвести закладку осадных батарей. В наступившей передышке похоронная команда собрала погибших и раненых. Более ста человек были убиты. На следующий день их внесли в списки, и после отпевания, закопали в одной могиле для всех. Увы, среди них был и Артём из станицы Каргалинской.
Через пять дней в десять часов утра началась бомбардировка и одновременно штурм передовой башни, который происходил на виду у всего города. Генерал Булгаков, обращаясь к войску, отметил, что взять башню надо непременно, так как неудача только добавит оптимизма защитникам Дербента.
Перед штурмом, глядя на парящего над городом беркута, Савелий загадал, что осаждавших ждёт успех и башня будет взята, если птица, несмотря на разрывы гранат, не улетит в горы. Под звуки выстрелов, войска вновь пошли на приступ и молодому казаку было уже не до беркута: он опять бежал вниз к главной башне перепрыгивая через валуны, и выставив шашку, орал вместе со всеми: «Ура!». Когда отряд ворвался в башню, в начавшейся рубке, сквозь дым и огонь ружей, Савелий увидел, как передние казаки, вклинившись в ряды защитников башни, начали теснить врага на верхние этажи. Дробно и звонко застучали клинки, окровавленные тела скатывались по ступеням вниз. Он устремился за урядником, стараясь не отстать: справедливо полагая, что рядом с ним не так опасно. Ноги то и дело попадали во что-то мягкое, но Савелий не смотрел вниз. Поднимаясь вверх по лестнице, он глядел вверх, туда, где за маячившими спинами казаков, теснивших врага, метались штандарты и знамёна Али-Паши. Последние ступени он проделал в плотной толпе, орущей что-то невообразимое на нескольких языках. Забежав на второй этаж, он отмахнулся от прыгнувшего на урядника канонира в синих шельварах и удивился, когда увидел фонтан крови из под платка «басурманина». Он не сразу понял, что убил его, а когда увидел благодарное лицо Дормидонта, почувствовал некую гордость и удовлетворение. Захотелось убить ещё. Он рванулся в гущу боя, собираясь сокрушить каждого, кто попадётся под руку, но в это время, старший офицер персов зычно закричал что-то по своему и воины Али-Хана, побросав оружие, сдались. Башня была взята. Сдавшихся связали, вывели наружу и отправили в лагерь. Из ста оборонявшихся в живых осталось меньше половины и часть из них была ранена. Возвращаясь вместе с пленными в лагерь, Савелий взглянул на небо и улыбнулся – птица продолжала кружить над городом. В тот же день напротив замка Нарын-Кале, прямо у городских стен были вырыты траншеи, подведены пушки и началась бомбардировка. К полудню следующего дня русские «единороги», выпустив четыре сотни ядер, разрушили часть стены и угол башни. В образовавшийся проём генерал Булгаков, с удовлетворением наблюдавший панику царившую в городе, произнёс: «Давно бы так надо было». К полудню осажденные выкинули белый флаг, а вслед за тем в русский лагерь явился и Шейх Али-Хан. Победа была полной. После пленения правителя Кубинского ханства, русская армия достаточно быстро захватила Баку, Кубу и Шемаху. Можно было надолго утвердиться в Закавказье, но при вступлении на престол Павла 1, русские войска к зиме 1796 года оставили все завоёванные территории и были вынуждены отступать к Терской линии. Завоёванные ханства были возвращены Ирану. Так закончилась Русско-Персидская война 1796 года.
Глава 2
После окончания войны и подписания позорного мира казаки вернулись домой. Пройдя лесом Яхтинское урочище, они приблизились к караульному посту на южной границе станицы. Она встретила казаков неприветливым холодом крещенского января, без снега, без солнца, с замёрзшим лужами и лысыми буграми разбросанными по округе. У околицы возле рощицы одичавшей шапталы навстречу станичникам выехал старый Нил. Он направлялся в Калиновскую навестить брата, и увидев земляков, привстал на козлах.
– Никак Макей! – воскликнул старик, признав своего соседа – И ты здесь, Фёдор! А это хто? Черкашин что ли? На побывку, али как?.. Али война закончилась!?
Казаки придержали коней и окружили повозку.
– Насовсем. Какие новости, старик? – глухо подал голос Макей. Он был простужен и кутался в башлык. Казаки подъехали поближе к старику.
– А какие наши новости. Гаврила Быхов помер на Николу, давеча Лукерья Пономарь приставилась, упокой господь их души. Я вот к брату еду: совсем говорят плох.
Старый Нил вздохнул и завершил обзор новостей.
– А так всё ничего.. жить можно..
Распрощавшись с Нилом станичники поспешили по домам. У Савелия сердце, ёкнувши, забилось сильнее, когда переступив порог, он вошёл в дом. После яркого дня Савелий не сразу углядел в полутемной хате, сидевшего за столом отца в домашней рубахе, который что-то строго выговаривал младшему брату Саньке. Увидев Савелия, Иван Филиппович осёкся на полуслове и умолк. Санька, воспользовавшись замешательством отца, сорвался со скамьи с криком: «Сава!», подбежал к брату и уткнулся лбом в холодную черкеску. Отец, наконец вышел из ступора. Он вложил изувеченную руку в повязку, и подойдя к сыну, поприветствовал.
– Отвоевались…
Савелий хмуро кивнул.
Иван Филиппович здоровой рукой притянул сына к себе и обнял.
– Ничего, не впервой.. Это не наш позор..
Савелий скинул бурку, снял башлык и папаху, всё это сложил на лавку, и перекрестившись, сел у стола. Спросил о матери.
– Она пошла к бабке Ульяне, тётке своей. Скоро обещала быть. – сказал отец и обратился к Саньку.
– Сбегай, поторопи её. Скажи Сава приехал!
Сашка, не сводивший восхищённых глаз с брата, подхватив шапку и зипун скрылся в сенях. В хате наступила неловкая тишина, только на стене, тихо тикали ходики привезённые Иваном десять лет назад из Германского похода, да шуршали мыши под кровлей, пришедшие с полей зимовать в тепле и достатке. Отец не скрывал переполнявшей его радости, несколько раз открывал рот, чтобы начать разговор, но не находя нужных слов, только поправлял висящую плетью руку.
– Похудел однако… – сказал Иван Филиппович, вспомнив, что в таких случаях начинают с погоды и вопросов здоровья.