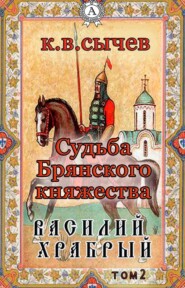По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман Брянский
Автор
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы ничего не знали о его страданиях, великий князь, – ответствовал князь Владимир. – Так и угас, как жил, никому не будучи в тягость!
– Посмотри на его лицо, – сурово молвил владыка, – и ты поймешь, великий князь Роман, что усопший праведник – настоящий святой или мученик! На его устах – даже миротворная улыбка! А это – знак вечной благости! На его праведность указывает и то, что ты успел с ним проститься до погребения!
– Батюшка! – воскликнула подошедшая к отцу княгиня Ольга. – Как хорошо, что ты приехал, чтобы поддержать нас в такое время! – Она прижалась к отцу, обхватив его обеими руками.
– Ну, уж ладно, доченька, – бормотал растроганный князь, обнимая и целуя княгиню. – Я не мог к вам не приехать! Скачем из самой Болгарии! Мы там воюем уже который год по воле татарского царя…Однако же, что это я? Пора бы проститься с Василько Романычем!
Князь Роман осторожно высвободился из объятий своей дочери, подошел к изголовью гроба, склонился перед покойником и поцеловал его в лоб. Вслед за ним у гроба прошли брянские бояре и лучшие дружинники. Они кланялись усопшему и вытирали руками свои скупые мужские слезы. После обряда прощания владыка подал знак, и церковные служки, взявшись со всех сторон за большой, обитый красным атласом, княжеский гроб, понесли его вглубь церкви, где и погребли под пение церковного хора останки владимиро-волынского князя прямо под полом в подготовленную для этого выдолбленную в камне нишу.
Вечером в княжеском дворце состоялся поминальный пир в честь умершего. За большим княжеским столом поместились все лучшие люди и гости волынского князя, а возглавляли пиршество сидевшие рядом на поставленных впритык креслах князья Владимир Васильевич и Роман Михайлович Брянский. По правую руку от князя Романа в самом начале длинной, тянувшейся вдоль стола скамьи расположился галицкий и холмский князь Лев Даниилович с молоденьким сыном Юрием, а за ним, рядом с князем Мстиславом Данииловичем, восседали галицкие бояре. По левую руку от князя Владимира Васильевича в маленьком креслице сидела княгиня Ольга, за ней, на одноместной скамеечке – сестра хозяина дома Ольга Васильевна, возле которой тянулась вдоль стола другая скамья, занимаемая брянскими и волынскими боярами и другими знатными, знавшими покойного, людьми.
После поминальной молитвы, которую произнес сам владимирский епископ, молодой князь Владимир Васильевич принял из рук слуги большую серебряную братину с хмельным медом, отпил из нее несколько глотков и передал сосуд тестю. Князь Роман проделал то же самое и передал братину князю Льву. Так поминальная чаша пошла по кругу. В трапезной стояла мертвая тишина. По обычаю, чтобы не тревожить душу покойного, блуждавшую поблизости, гости вставали и пили хмельное без слов. Передав чашу дальше, каждый из них садился на свое место и угощался разложенными по блюдам обильными яствами. Наконец, после того, как все насытились, по знаку, поданному владыкой, перед собравшимися выступил священник – настоятель церкви Пресвятой Богородицы отец Мефодий. Он рассказал о жизненном пути покойного, его заслугах перед княжеством и всей русской землей. Священник подробно перечислил все праведные дела, совершенные усопшим, особенно остановившись на церковных делах князя Василия: его пожертвованиях на храмы и церковные службы, заботах о священниках и монахах. Не забыл он и о глубокой набожности князя.
– Будет славен в веках этот праведный князь Василько Романыч, – закончил свою речь священник, – на земле и на небе! Пусть же ему будет земля мягким пухом, а его душе – вечный покой!
После этого заговорили гости. Первым из них высказался о почившем Роман Брянский. Он так прочувственно описал свою первую встречу с князем Василием, их совместные военные походы, выделяя при этом доброту, щедрость, любовь к друзьям, которыми обладал покойник, что все гости прослезились. До глубокой ночи продолжалась поминальная трапеза и разговоры об умершем.
А когда наутро гости собрались на обычную трапезу, за столом не досчитались князей Льва и Мстислава Данииловичей.
– Мой двоюродный братец Лев обиделся, – сказал князю Роману Владимир Васильевич, – на то, что я посадил его не на почетное, по его мнению, место за поминальным столом. Увез за собой даже брата Мстислава!
– Однако он сидел на довольно почетном месте, – бросил рассерженно Роман Михайлович, – хотя не достоин и этого! Этот глупец наделал столько зла русской земле! И еще хочет себе почета!
– Будет о нем, батюшка, – сказала княгиня Ольга. – Ты уж лучше расскажи нам о своих брянских делах. Как там братец Олег, и почему он не приехал на похороны?
– Ох, доченька, не хотелось бы тебе рассказывать про Олега! – покачал головой князь Роман. – Он такой строптивец! Так меня, своего батюшку, обидел! Сказал такие горькие слова!
– Братец Олег? – удивилась Ольга Романовна. – Вот бы не подумала, что он способен на такое! Братец был всегда тих и покорен, почтителен к тебе и матушке, набожен…Да что там у вас такое приключилось?
– Как-то по весне к нам приехал один дружинник из деревеньки Асовицы, – ответствовал великий черниговский князь, – куда я сослал на поселение моего Михаила-ослушника. Но я еще раньше приказал, чтобы тот бесстыжий Михаил не появлялся перед моими глазами и не присылал ко мне своих людей. Вот я узнал о такой дерзости и захотел задержать того нечестного воина, чтобы посадить его в острог на пару лет с отработкой в пользу моей казны…Но мои люди установили, что этот воин прибыл в Брянск не от Михаила, но от его бессовестной женки, чтобы просить меня отпустить ее сестру Кветану в Асовицу. А той девице к тому времени уже исполнилось два десятка лет. Она стала настоящей красавицей! Что сказать: молодица в расцвете сил! Кровь с молоком! Она, как я знал, очень нравилась моему Олегу. Этот непослушный сын уже давно уговаривал меня разрешить ему обвенчаться с той прелестницей! Ну, а я всегда отвечал ему отказом… – Давай-ка, – говорил я сыну, – сосватаем тебя за знатную девицу, княжескую дочь… – А он – ни в какую! Даже угрожал мне, что останется вечным бирюком! Вот какой наглец! Вернемся же к тому асовицкому воину…Я уже говорил, что приказал задержать того ослушника и посадить его в острог…Ну, вот как-то пришел ко мне мой огнищанин Ермила и подал очень полезный совет. – А почему бы не отпустить эту Кветану к ее сестре? – спросил он меня тогда. – Уехала бы эта зазноба, и княжич Олег бы успокоился…А мы бы тогда сосватали за него благородную княжну. Ну, а я на это ему возразил, а не уедет ли мой Олег за той своей кралей, выставив меня посмешищем перед всем белым светом? А то вдруг еще чего-нибудь натворит! Что тогда будем делать? Мы долго об этом размышляли, но ничего не могли придумать. Слава Господу – нам помог тот асовицкий воин, приехавший за Кветаной! Он рассказал стражнику, который был с ним в остроге и выпытывал намерения этого узника, что он прибыл сюда, рассчитывая жениться на той Кветане! Вот уж досадила мне та девица, что я накрепко запомнил ее имя! Оказывается, тот молодец уже давно был влюблен в Кветану! Он дожил почти до трех десятков лет и все мечтал на ней жениться! Когда мы с Ермилой об этом узнали, то очень обрадовались! Мы послали людей к той Кветане и стали уговаривать ее уехать к своей сестрице…А та все ломалась…Она была непрочь повидать сестру, но не хотела расставаться с моим Олегом…Ну, мы ей объяснили, что не позволим состояться их браку! А она так и состарится в девицах…Но и это не помогло! Благо, выручил Добр, мой воевода, в доме которого росла эта девица и была ему как бы младшей сестрой. Этот Добр поговорил с Кветаной и посоветовал ей выйти замуж за того асовицкого воина, который сидел тогда в остроге. Добр объяснил той девице, что несчастный воин сидит в узилище из-за своей горячей любви к ней. А если она хочет его спасти и уехать с ним к своей сестре, то пусть разрывает свои связи с моим сыном и венчается с тем мужем! Ну, вот, как оказалось, у той Кветаны было доброе сердце…Я уже пожалел, что она не княжна, а то была бы верной и заботливой супругой моему Олегу…Так вот, она согласилась на свадьбу с тем молодцем! Но Олег ничего об этом не знал…А я отослал его в эти дни подальше, в Почеп, к местному воеводе, якобы для проверки тамошней крепостцы. Тот ничего не заподозрил: ведь мы иногда посылаем в наши городки людей, чтобы не забывали о стольном Брянске…А пока Олега не было, мы быстро обвенчали молодых – ту Кветану и того смелого молодца – и отослали их с охраной в Асовицу. Так и живут теперь там молодые супруги…Мы преподнесли им, как положено, богатые подарки через Ермилу за доброту и покладистость! Вот так мы уладили это дело и оградили моего Олега от беды, чтобы не повторилась история с Михаилом! Мы не допустили нового греха!
– Однако это – недоброе дело, батюшка! – вскричала, выслушав отца, Ольга Романовна. – Разве тебе не жаль своего сына Олега? Ах, мой бедный братец! Как же он перенес это жестокое наказание?
– Что ты, доченька? – перекрестился Роман Михайлович. – Разве можно называть наказанием дело спасения моего сына? Олег, как оказалось, так влюбился в ту Кветану, что увяз в своей любви, как в бездонном болоте! Когда он приехал в Брянск и обо всем узнал…Сначала он упал в нашем тереме перед матушкой на пол и так лежал без движения и голоса три дня и три ночи! Лишь один отец Игнатий сумел оживить моего сына от душевной боли! А после того, как Олег отошел от своего оцепенения, он прибежал ко мне в небывалом гневе и сказал, что не забудет этого зла до самой смерти! Что он теперь никогда не женится! Грозился уйти в монахи! Наконец, он оскорбил княжеский венец, обозвав его никчемной культяпкой! Я тогда промолчал, выслушав горькую обиду, и послал к нему попов – отца Игнатия и молодого отца Арсения. Этот Арсений, мудрый и благочестивый книжник, едва успокоил моего сына. А потом я ушел в поход с воеводой Ногаем на греков и болгар без Олега. Пришлось его оставить в Брянске. Это посоветовали попы: они побоялись, что у княжича может помутиться ум в далеком походе…
ГЛАВА 3
ВСТРЕЧА С СЫНОМ
Купец Илья был сегодня в хорошем настроении: наконец-то приехал в гости его старший сын Лепко!
– Что, кажется, стоит сыну почаще бывать в нашем городе? – думал седобородый отец. – Брянск – не так далеко отстоит от нашего Смоленска!
Приезд сына поздней осенью 1270 года был единственным радостным событием в жизни смоленского купца за последнее время.
А все началось с того, что три года тому назад в Великом Новгороде, при князе Юрии Андреевиче, случился страшный пожар: в один день весь город превратился в сплошное море огня. Лишь примыкавшие к реке Волхову строения, часть торговой стороны и городская крепость уцелели. Совершенно выгорел Неревский конец, на месте которого осталось лишь огромное, серое от пепла, поле. Больше всего пострадала от стихии городская беднота: без жилья и хозяйственных построек осталась половина населения города. Отчаявшиеся, обозлившиеся, голодные люди обвинили во всем городские власти и богачей. Начались массовые беспорядки и грабежи. Особенно досталось купеческим лавкам. Мятежники беспощадно их разгромили. Только иноземных купцов не тронули: их имущество надежно охраняли и княжеские дружинники, и городское ополчение, созванное тысяцким по случаю беспорядков.
Смоленские купцы – Ласко Удалович и Избор Ильич – потеряли все свое имущество и товары. У первого в беспощадном пламени сгорели все торговые лавки, а второй был ограблен мятежной чернью. Ущерб, понесенный купцом Ласко, был огромный! В новгородские товары была вложена половина его богатств! Торговля с Новгородом потеряла после этого для него всякий смысл. Продав за бесценок свои торговые места новгородским купцам, Ласко Удалович покончил с северной торговлей и с горя занемог. Теперь он совершенно отошел от дел и всей торговлей ведал его сын Мил, который не пришел в отчаяние в трудное для семьи время, и, опираясь на помощь родственников и наличные запасы серебра, стал постепенно восстанавливать прежнее положение своего торгового дома.
Избор Ильич в то время оказался в еще более трудном положении, чем его тесть. Ведь все свои доходы он имел только от новгородского торга. Лишь помощь отца и старшего брата Лепко позволила ему болезненно и медленно перейти на новую торговлю – теперь уже с иноземцами, обосновавшимися в Смоленске. Потерпев ущерб от новгородских беспорядков, младший сын Ильи Всемиловича уже больше не хотел поддерживать связи с беспокойным, непредсказуемым городом.
Сам же Илья Всемилович не прекратил новгородскую торговлю. Он продолжал посылать в великий северный город богатые обозы с мехами.
– Разве есть толк в том, что ты сбываешь, здесь, на месте, свои товары иноземцам? – вопрошал он сына Избора. – Только одни убытки! Если немец что-нибудь берет, так с огромной для себя прибылью! Пусть я гоняю своих людей в Новгород, но доход у меня больше твоего на треть!
– Ах, батюшка, – отвечал ему на это Избор Ильич, – а сколько опасностей подстерегают твоих людей? Там, в этом городе, вечные неурядицы! Только ссоры и войны со своими князьями! Вон, смотри, нынче там опять бунт, теперь уже против князя Ярослава! А война с немцами? Несчастная беднота осталась после пожарища без куска хлеба, так новгородская знать, пользуясь бедой простолюдинов, послала их на жестокую войну с немцами! Даже мой приказчик, Дружила Умыслич, пошел в то ополчение. Вот и сложил он свою головушку в битве с немцами у Раковора два года тому назад…Не мог сюда, ко мне, приехать! Разве я не нашел бы ему тут работу? А какой был славный приказчик!
И слова младшего сына Ильи Всемиловича оказались пророческими. Новгородская торговля стала едва не убыточной для всех смолян! Два года тому назад обоз купца Ильи с товарами чудом добрался до великого города, а вот совсем недавно, в нынешнюю весну, у обширных новгородских болот появились вооруженные немцы и перерезали известный торговый путь…Пришлось купеческим людям возвращаться назад в Смоленск «несолоно хлебавши».
– Ладно, что еще удалось избежать встречи с теми немцами, – рассуждал про себя Илья Всемилович. – Другим нашим купцам не повезло. Пропали все товары, а их люди бесследно исчезли, как будто их совсем не было! Пора, как я вижу, прислушаться к совету сына Избора и положить конец поездкам в этот город…А может, уйти на покой и закончить всю свою торговлю? – Седовласый купец задумался и провел рукой по морщинистому лбу. – Пора, видимо, на отдых! Эх, старость! Вот придет сынок Лепко, тогда обдумаем это дело…Передам все свои товары и дела сыновьям: пусть себе торгуют. А сам – лягу на печь и буду почаще ходить в церковь…
Хлопнула дверь, и в купеческую светлицу вошел старший сын Ильи Всемиловича Лепко. – Это я, батюшка! – весело сказал он, потирая руки. – Уладил все свои дела со смоленскими купцами! Опять я с прибылью! Договорился даже о волчьих шкурах! Так можно торговать!
– Садись, сынок, – улыбнулся Илья Всемилович, – сюда, рядом, на эту татарскую скамью.
– Да разве это скамья, батюшка? – засмеялся Лепко Ильич. – Это же татарский топчан! Какой мягкий! Видно ты научился ордынским премудростям! Такая же вещица есть у нашего славного друга, Болху-Тучигэна. Но у тебя еще мягче!
– Ну, как он там, сынок, наш Болху-Тучигэн? Я так по нему соскучился! – грустно молвил Илья Всемилович. – Столько лет его не видел! Завидую я тебе, сынок, что у тебя такое положение с правом свободных поездок в Орду! Ты теперь как бы княжеский посланник…Как там твой князь Роман Михалыч поживает? Может, он сидит теперь в Чернигове, своей столице?
– Куда там, батюшка! – покачал головой купец Лепко. – Как сидел князь Роман в своем Брянске, так и теперь сидит! В Чернигове он бывает только проездом…Что ему Чернигов? Я каждый год прохожу через этот город с обозами и не сказал бы, что это – настоящая столица…Обезлюдел, обеднел Чернигов…А братья нашего великого князя ездят теперь с татарской данью в Брянск, а не в Чернигов!
– Они слушаются великого князя Романа?
– Слушаются, батюшка. Вот в первом году великого княжения Романа Михайловича в Брянск приезжал удельный карачевский князь. Он вел себя очень почтительно! Князь Роман тепло его встретил, они долго говорили…Ну, вот и возит теперь князь Мстислав Карачевский самолично, каждый год всю свою ордынскую дань в Брянск. А вот князь Семен прибыл лишь в следующем году, зато с двойной данью…Князь Роман долго держал его у себя, как лучшего гостя: помнил его хлебосольство в Новосиле! Даже красных девиц ему доставлял через своих людей! Князь Семен очень любит женок!
– А где же княжеские люди находили ему девиц? – удивился Илья Всемилович. – Это же не Смоленск, там нравы не такие вольные!
– С этим, батюшка, княжеским людям нет беспокойств! – усмехнулся Лепко Ильич. – В Брянске побольше красных девиц, чем здесь! Толковые люди открыли там уже десяток только веселых домов! А как же: в город часто приезжают именитые гости, и Брянск – не какое-то захолустье, а, по сути, стольный город! Ну, вот, если нужны красные девицы или многоопытные в делах любви женки, достаточно зайти в любой веселый дом…Там подберут нужному гостю все, чего бы душа не хотела…Однако, что это я все об этих домах? Так вот, батюшка, только с братом Юрием, удельным тарусским князем, не все ладно. Наш великий князь Роман поссорился с ним! Дело едва не дошло до войны! Когда скончался великий черниговский князь Андрей, этот князь Юрий хотел отдать свою Тарусу великому суздальскому князю Ярославу Ярославичу, своему зятю! Но Роман Михалыч не допустил этого безобразия! Он сначала вызвал своего брата в Брянск…Тот очень не хотел подчиниться! И приехал туда с огромным недовольством! Великий князь Роман встретил его со всей строгостью и гневно отчитал! Говорили, что князь Юрий Михалыч пытался даже пугать нашего великого князя войсками Ярослава Суздальского! Но Роман Михалыч не испугался его глупых слов и с гневом сказал: – Если не послушаешь меня, брат, и не станешь возить сюда дань, мы с тобой поссоримся! Это обернется только обузой и бедой великому князю Ярославу! – Ну, вот…Тогда непокорный княжеский брат смирился со своей долей и теперь каждое лето возит в Брянск ордынскую дань…
– Неужели князь Ярослав Суздальский стерпел такое? – воскликнул Илья Всемилович. – Я слышал, что все суздальские князья горды, надменны и своего не упустят! Разве ты не помнишь, как великий князь Александр ходил в Орду против своих братьев? Было и так, что он приводил татар на свои же земли и губил несчетное множество людей! Но не только этот покойный князь, а и прочие суздальцы…Может, они теперь помирились?
– Временно помирились, батюшка, чтобы портить жизнь другим князьям, – покачал головой купец Лепко. – Когда я в это лето приезжал в Орду, Болху-Тучигэн рассказал мне, что тот князь Ярослав, его брат Василий и сыновья этих князей уже не раз пытались оговорить нашего князя Романа перед самим татарским царем! Болху все выпытывал у меня, а не говорил ли Роман Михалыч что-нибудь нелестное о государе Мэнгу-Тимуре или об их вере! Я тогда встрепенулся от таких слов и сказал Болху напрямую: – Объясни мне, дяденька Болху, а зачем тебе это надо знать? Ведь наш князь благочестив, праведен и верен этому славному царю! – Тогда Болху сказал мне по секрету, что у ордынского государя побывали те суздальские князья и говорили много плохого о Романе Михалыче! Поэтому он и решил поговорить со мной, близким человеком нашего князя. Ну, Болху меня выслушал, поверил моим словам и молвил, что он передаст царю всю правду и похвалит нашего князя Романа. Благо, что наш Болху нынче в большой силе! Царь прислушивается только к его словам!
– Подумать только! И это – русские люди! – возмутился Илья Всемилович. – И еще смеют после этого ругать татар! Называют их погаными! Да татары добрее и правдивее их в сто раз! Я уже не говорю о родстве! Я думаю, что татарский царь не обидит вашего князя Романа. Если ни Бату-хан, ни премудрый Берке ничего ему не сделали…Да еще тот злобный Сартак! Вот уж был зверь! Я тогда едва добрался домой живым! Нынешний царь молод и неопытен. Будет во всем слушать старого Болху! Что тогда князю Роману эти оговоры? Говорят, что этот царь добрый, даже ласковый…
– Не спеши с такими суждениями, батюшка! – возразил купец Лепко. – Я только что говорил, что царь Мэнгу-Тимур доверяет лишь одному Болху-Тучигэну. Однако же государь сам себе на уме! И, порой, бывает весьма жесток! Я не хотел тебе рассказывать одну такую историю…О тезке моего князя, Романе Олеговиче Рязанском…Уж больно тяжела для души эта история, обильно политая кровью! Этот ордынский государь не такой уж ласковый!
– А что там случилось с этим князем Романом?! – воскликнул Илья Всемилович. – Он ведь сын праведного и святого князя Олега Рязанского? Неужели он потерял свою землю? И как?
– Не только землю, батюшка, но и свою буйную головушку!
– Да как же, сынок? В чем же он провинился перед татарским царем?
– Это, батюшка, все происки суздальских князей! – тихо сказал купец Лепко. – Как и против моего князя Романа Михалыча! Вот ты подумал, что их оговоры ничего не значат для татарского царя…Ан нет! Правда, все свалили на какого-то рязанского боярина…Якобы, он оговорил своего князя за какую-то мелкую обиду…Но я узнал настоящую правду! Тот рязанский боярин был на тайной службе у суздальских князей, как их соглядатай в Рязани. Известно, что суздальские князья никогда не ладили с рязанцами. Они хотели присоединить рязанские земли к Суздальскому княжеству!
– Так что же они такого донесли на Романа Олеговича?
– Да не они, батюшка, а тот их рязанский послух. Я же тебе только говорил! Ну, так вот, он, по указанию великого князя Ярослава добрался, как мне сказал по секрету Болху, до того царя Мэнгу-Тимура и донес на Романа Рязанского, что тот ведет себя грубо и непочтительно по отношению к татарскому государю…Якобы князь Роман Олегович говорил при своем дворе в Рязани, что вера у царя Мэнгу бесовская и неправильная, что их книга Алькоран совсем не святая…Словом, так, что этот государь – нечестивый бусурманин и злодей!