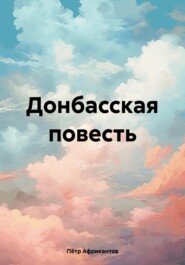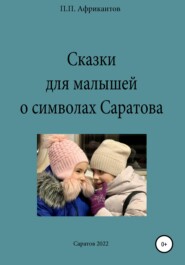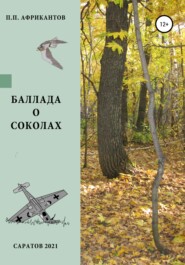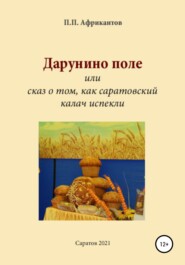По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Саратовские игрушечники с 18 века по наши дни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут Васька опять вспомнил мать. Ему стало горько, что её нет, а то бы она обязательно за него заступилась. А ещё он подумал о глине, главной виновнице произошедшего и ещё о Томке, и если б не она, то он бы и не стал лепить этих баранчиков и много ещё о чём бы он успел подумать, если б….
В общем, здесь стоит сделать паузу. Потому, как во время паузы можно не только всей грудью вдохнуть воздух, но и всей грудью, его же и выдохнуть, что и сделал провинившийся Васька, так как нельзя было этого не сделать. Просто Васька в это время глядел в окно и первым увидел идущую к дому ватагу встревоженно гогочущих гусей. Все бросились к окну, пошире отдёрнули занавеску, а Ефим с Пелагеей даже приподнялись на цыпочки, хотя и были выше всех ростом.
Никто не произнёс ни звука, только Андриян кашлянул в кулак. – За окном по дорожке к дому впереди гусиного стада шли два голых ощипанных Пелагеей и Маней гуся и только на крыльях, хвостах и головах у них было не выщипанное перо, что придавало им некую осанистость и смешливую важность. Они шли, покачиваясь на оранжевых лапах, взор их был ещё помутнён от съеденного бражного теста, в голове троилось и им казалось, что к дому ведут ни одна, а три дорожки и каждый из них вышагивает по своей. Такое триединство не мешало им весело гоготать и хлопать то и дело крыльями. Гусям было весело. Возможно, птицы думали, что всё это происходит в их гусином сне. Другие гуси видом своих сородичей были, надо сказать, весьма ошарашены и то и дело забегали вперёд, разглядывая одностадников, трясли головами и от удивления вскрикивали.
Первой, не вытерпев, прыснула в кулак Анютка, а Ефим дал Ваське хороший подзатыльник, только ему было совсем не обидно, это не в подпаски к деревенскому пастуху идти.
«МИ» второй октавы
Отец мой, по большому счёту, не был игрушечником, тяги у него к этому делу не было. Хотя, как и подобает в семьях, занятых этим ремеслом, лепить умели все, к этому сызмальства приучали. Приучали – то всех, а игрушечниками становились не все. Так вот, родитель мой Пётр Андриянович лепить особо не лепил, а вот слух имел отменный. Точнее сказать, умел он из игрушек виртуозно делать только одни свистки разных размеров и разных тональностей с птичьими и звериными головами. И до того он в этом деле преуспел, что слепить два свистка одинакового звучания, ему ничего не стоило. Делал он и свистки двушки, и тройчатки, соединяя в одном свистке два, а то и три разных звука, подбирая их так, чтобы звучание было благозвучное и чтоб слух не коробило. Ещё он делал свистки «гуделки» с игральными отверстиями. Научил свистки Петра Андрияновича делать отец, который знал все тонкости этого мастерства, потому, как у игрушечников-глинолепов, уметь делать свистки считалось наукой из наук. Только сын в этом деле больше преуспел, превзошёл отца и всё благодаря отменному слуху.
Нотной грамоты, мальчишка не знал, но внутренним чутьём понимал, какие звуки стоит в свистке соединять, а какие нет. Всё зависело от предназначения изделия. Если пастуху требовался свисток, то лепил его Пётр Андриянович со звуком резким и отрывистым, чтоб до самой глупой коровы в стаде доходило. До той, у которой, в рогатой голове только одна извилина и та работает на то, как на озимые сбежать. Для ребёнка-ползунка свисток лепился с нежным звучанием и лёгким вдуванием, чтоб малыш неудобств не испытывал, а свистя, лёгкие разрабатывал. Заезжие музыканты тоже ему свистки заказывали. Только этим музыкантам надо было свистки делать с определённым звучанием. А так как Пётр Андриянович музыкальной грамоты не знал, то они ему на каком-нибудь музыкальном инструменте показывали, с каким звучанием им свисток нужен. Дзинькнут струной или растянут меха, нажмут на клавишу, а отец услышит, да такой же точно инструмент и состряпает. Говорят, сам профессор консерватории дивился на его способности, когда он ещё подростком был. Как там это было дело, точно неизвестно. Попал он в консерваторию по случаю, заказ отдать, а профессор взял со стола рогатую палочку, да как ударит. От этого звук появился. «А с таким звуком можешь свисток сделать?» – спрашивает. «А почему бы и нет» – отвечает отец.
«Только я тебе камертон не дам, – сказал профессор. «Значит, эта палочка с рожками камертоном называется» – смекнул подросток и отвечает: «А зачем он мне!? Мне он без надобности. Звук простой, это всё равно что блюдце на пол уронить, одинаково…»
Профессор даже брови поднял от удивления. «Ну…ну…» – только и сказал и так внимательно на паренька поверх очков посмотрел.
Свисток этот отец сработал, как говорят «ноль в ноль».
И быть бы отцу музыкантом большой руки, да только жизнь сложилась иначе, хотя нельзя сказать, что божий дар ему не пригодился. Пригодился он ему в самых интересных обстоятельствах и не где-нибудь, а на фронте, а точнее, в партизанском отряде, в котором он воевал с немцами в годы Великой Отечественной Войны на территории Белоруссии. Я уже упоминал об его военной судьбе в одном из очерков. Может быть, когда и опишу те события поподробнее, а сейчас скажу вкратце, чтоб понятно было тем, кто очерка не читал.
Пётр Андриянович в 1941 году служил в армии, был пограничником. Застава его находилась выше города Бреста. Когда немцы напали, он как раз стоял на посту в полном вооружении, как полагается. В первый же день войны он был тяжело ранен. Ему из пулемёта перебили выше колен обе ноги. Два артиллериста, крепкие ребята, несли обезноженного отца в колонне пленных, три километра, до ближайшей деревни, в которой был госпиталь. Был плен, было лечение в русско-немецком госпитале, где охрана была немецкая, а персонал русский. Главный врач госпиталя оказался не только из Саратова, но и родом из деревни, которая была от нашей деревни недалеко. Этот главный врач и прятал его от немцев на чердаке больницы. Потом был побег и партизанский отряд.
Из фильмов и из книг всем известно, что паролем у партизан были всевозможные звуки. Самый распространённый среди них был свист, за свистом шло подражание крику птиц, чаще всего это был крик утки. Уткой кричать умели далеко не все партизаны и пользовались этим паролем лишь разведчики и подрывники. У них были такие крикуны-умельцы. Подрывники и разведчики уходили на задания ни на один день, а когда возвращались на базу, то и оповещали о своём возвращении условленными заранее криками и свистами. Отец мой, как раз, был командиром отделения подрывников. Взрывали они чаще всего железнодорожные мосты и рельсовые пути. Уходили на задания сроком недели на две, не меньше. Во-первых, уходили далеко, километров за тридцать – пятьдесят, а во – вторых – к железной дороге, а тем более к мосту сразу не подойдёшь, охраняли немцы транспортные коммуникации хорошо. Дороги были нервами войны. Поэтому, как рассказывал отец, надо было к дороге выдвинуться незаметно, залечь, определить, где находятся вражеские секреты, узнать, когда они меняются, как происходит смена и многое другое. А если просто так к дороге сунешься, как говорится – «на дурачка», то ног от этой дороги не унесёшь, сам погибнешь и задание не выполнишь. Этим и была вызвана долгая отлучка подрывников из отряда.
Базы партизанские тоже охранялись, по дорогам и тропам стояли уже не немецкие, а партизанские секреты. В секретах находились бойцы, которые по свисту или крикам птиц определяли, кто идёт в партизанский отряд, свой или чужой. Вся эта оповещательная механика действовала безукоризненно до поры до времени, пока немцы всерьёз не обеспокоились тем уроном, который им стали наносить партизаны. Вот тут-то хитрый майор вермахта Мюльтке и придумал план по борьбе с партизанами. А план этот был такой. Решил Мюльтке найти среди военнослужащих немецкого гарнизона мастера по подражанию голосам животных, чтоб при помощи ложных птичьих криков обнаруживать партизанские секреты на дорогах и их уничтожать, а вместо них ставить своих автоматчиков и уничтожать группы подрывников, разведчиков и вылавливать связных, которые возвращаются на партизанскую базу.
Задача была серьёзная, план был умный и этот майор Мюльтке со всей немецкой педантичностью взялся за его выполнение. Сначала майор в егерской роте нашёл этого самого Карла, солдата, который мог голосам зверей и птиц подражать, затем он при помощи этого солдата выявил местонахождение партизанского секрета и полностью его уничтожил. Одним словом, с появлением этого Карла начались у партизан неприятности. То секрет немцы снимут, то разведчики на засаду нарвутся. Условные сигналы в виде крика птиц подавались правильно, а когда партизанские разведчики шли на эти крики, то получали из кустов пулю в упор. Так был убит друг отца Сашок. Пуля должна была сразить Петра Андрияновича, он шёл первым, но перед самой опушкой леса он провалился в кротовник и потянул ногу, первым пошёл Сашок, а отец, сильно хромая, стал в отделении замыкающим.
Когда пришли на базу, то выяснили, что пострадало не только отделение подрывников, у разведки были потери гораздо больше, плюс лишились связного мальчишки.
А самый первый прокол у фашистов произошёл в результате выжившего партизана, которого немецкие егеря посчитали мёртвым. Он то и сообщил, о ложных криках птиц, которые партизаны посчитали за сигналы товарищей.
К вечеру командир отряда собрал совещание. На него были приглашены те партизаны, что попали в немецкую ловушку, для точного выяснения обстоятельств.
Когда Пётр Андриянович спустился в командирскую землянку, там уже было довольно много народа. Лёшка Чабец, увидев товарища, подвинулся, уступив край скамьи.
– Что говорили? – Спросил отец полушёпотом.
– Ничего пока не гутарили, – в тон ему сказал Лёшка.
В этот момент в землянку вошёл озабоченный замполит. Прошёл, сел рядом с командиром.
– Что там? – спросил одними глазами командир отряда.
– Всё одно… – Проговорил замполит, – дают сигнал, а в ответ пули.
– Сигналы надо менять, – вставил паренёк из первой роты. Голова у него была перевязана, повязка набрякла от крови. Видно он только что вырвался из лап фашистов и никак не мог сдержать эмоции.
– А на что менять? – спросил разведчик Басалыгин. – Уткой крякаем – стреляют, филином ухаем – тоже самое. Что, опять на свист переходить? Уже было. Насвистели так, что и сейчас чешется…
– Каждый день надо менять пароли, – заметил командир взвода первой роты…, – другого не придумать.
– А как предупреждать о смене паролей тех, кто на задании и вернётся через неделю, а то и две? – спросил кто-то из дальнего угла землянки.
– Немчишку надо кокнуть, того что ловко голоса животных копирует,– сказал Басалыгин.
– Что надо немчишку ликвидировать, это понятно, – сказал командир. Придёт время – ликвидируем. Только люди у нас сегодня гибнут. Может быть, кто ещё идейку подкинет? – и он обвёл взглядом собравшихся и добавил, обращаясь к Петру Андрияновичу. – Что, Игрушечник? Здорово фриц уткой кричит? Что скажешь?
– Здорово – то оно здорово,– проговорил Игрушечник, – только утки все разный голос имеют.
– Ты это к чему? – спросил замполит.
– А к тому, что как уткой не крикни, то всё хорошо. Утки они ведь тоже каждая свой голос имеет. А у нас как… Утка крикнула и ладно, значит, свои. А как она крикнула? С какой интонацией в голосе, испуганно, озабоченно, или просто селезня подзывает?
– Верно, сказал раненый боец, только мы всех бойцов в один утиный голос заставить кричать не сможем, талантов не хватит, вот немцы этим и пользуются.
– А ты, Игрушечник, не говори загадками! Говори, что на этот счёт думаешь – сказал замполит.
– Я считаю, что тот боец прав, что предложил снова на свист перейти. Я не видел, кто это сказал.
– Ну, ты, Игрушечник, даёшь! Мы же уже свистели… – ухмыльнулся Лёха.
Пётр не глядя на него ответил:
– Неправильно свистели. Свистели, как и утки крякали, все по-разному. Немец нас на этом и подловил.
– А как же мы будем одинаково свистеть, – вставил дед Хорь, который только что пришёл из деревни тайными тропами. – Я, например, совсем свистеть не умею, у меня зубов нет. Васька вон, сквозь пальцы свистит, а Мишка как-то во рту язык закладывает, что свист происходит… Вот и получается, что одни с шипом свистят, а другие ухо свистом режуть.
– Надо свистеть всем одинаково, – упрямился Игрушечник.
– Я через пальцы свистеть не буду,– заметил Лёха. – Я учился…, не получается.
– Нам что, свистки с собою носить? – вставил опять тот же боец, которого не рассмотрел Игрушечник.
– А почему бы и нет. Только свистки должны быть у всех одинаковые, одной тональности. – Вспомнил Пётр выражение профессора из консерватории и тут вставил его в разговор для важности.
Здесь пришло время пояснить читателю, почему Петра Андрияновича в командирской землянке все называют Игрушечником. И совсем не потому, что он происходит из рода игрушечников, об этом никто и не знает, а потому, что один раз, а таких разов было много, в партизанский отряд привели детей, у которых на глазах расстреляли родителей. Ребятишки были подавлены, всё время молчали и даже от еды отказывались. Вот мой отец и слепил им из глины игрушки, как у него в семье лепили. Понятно, что это были свистки, сделанные в виде птичек с дырочками на спинке. Во время свиста эти отверстия закрывались по очереди и получалось музыкальное звучание. При помощи этих свистков ребятишек, можно сказать, к полноценной жизни вернули. Хотя, какая в отряде у детей может быть полноценная жизнь? Вот с тех самых пор и закрепилось за Петром Андрияновичем второе имя – «Игрушечник». Да, так закрепилось, что спроси у партизан, пришедших в отряд после этого случая, так они настоящего отцова имени и не знают, Игрушечник, да Игрушечник, всё всем понятно. (Теперь и далее я буду называть Петра Андрияновича в рассказе Игрушечником).
– А где мы эти свистки одной тональности найдём? – задал кто-то вопрос.
– Свистки такие сделаем,– заверил Игрушечник. – Я их из глины налеплю.
– И все одинаково свистеть будут? – спросил раненый боец из другой роты.
– Одинаково будут свистеть, не беспокойся, – заверил Игрушечник.
– А кто в лесу будет определять, какой тональности свист? – спросил замполит. – Не все же такие слухмяные, как ты.