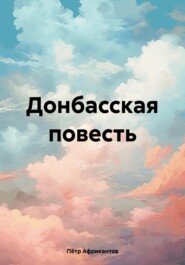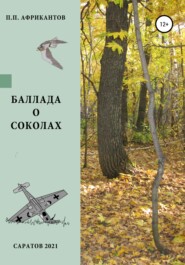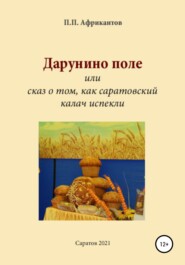По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Саратовские игрушечники с 18 века по наши дни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А когда Евдоким не пришёл ни через день, ни через неделю, сказал: «Видно нет у меня больше брата». Евдоким в ссоре пошёл ещё дальше. В то время продолжалась перепись населения и крестьяне получали фамилии. Кому фамилии давали по прозвищам, а чаще по именам родителей и дедушек. Сыновья Африканта: Михаил, Семён, Григорий, Ларион и Евдоким были записаны по имени отца – Африкантовыми. В ссоре Евдоким отказался с Илларионом носить одну фамилию и записался «Тетериным», по уличному имени деда, прозвище которого было «Тетеря». Больше к этому вопросу в семье Иллариона не возвращались. Только счастливая семейная жизнь у Иллариона с Фимой оказалась не очень долгой. Народив Николая, Федосью и Акулину, она при следующих родах умерла.
Долго горевал по Фиме Илларион, однако со смертью жены лепить игрушки не перестал, душой к лепке прикипел. Второй раз Илларион женился на Анфисе Васильевне, которая, тоже оказалась женщиной со сноровкой и с художественным вкусом, что для Илларионова игрушечного дела было как раз кстати. Думается, этот выбор не был случайностью. Видно он такую женщину и приглядывал себе в жёны, чтоб могла игрушечным делом заниматься.
Помирились братья в день рождения у Анфисы с Илларионом долгожданного сына – Андрияна. На радостях простил Илларион давнюю на брата Евдокима обиду и всех позвал на крестины. Евдоким тоже не держал зла на брата, а вот фамилию «Тетерин» менять не стал, сказав: «Чего её менять, чай не баренья какие, понятно чьи будем и ладно».
– Андриян Илларионыч Африкантов будущий игрушечных дел мастер, –говорил Илларион в изрядном подпитии, поднимая младенца к потолку.
Анфиса радостная стояла рядом и боялась, как бы, не уронили новорождённого. Никто из них в то время не знал, что в расшитом ещё Фимой одеяльце басовито кричит не только продолжатель рода Африкантовых, и будущий игрушечных дел мастер, но и от роду, свободный землепашец, а уж о том как его отец Илларион получил от барыни Быстряковой вольную, особый сказ.
Как Илларион от барыни
вольную получил
Дело это было ещё до отмены крепостного права. В каком точно году произошло это событие неизвестно, этого семейное предание не сохранило, а сохранило то, что вольную получил именно Илларион Африкантыч, проживший на свете 71 год и умерший в 1909 году. Если исходить из церковных записей Казанского прихода Ворыпаевской церкви, то именно Илларион в них называется – «крестьянин-собственник», а не «крепостной помещицы Быстряковой», что означает только одно, что выкупился именно Илларион. Доподлинно известно ещё и то, что получил прадед вольную не как другие через выкуп, а к выкупу ещё примешана заслуга пред барской семьёй. Заслуга, вроде, по деревенским меркам, и пустяшная, только не для барыни, которая обыкновенную холопскую сметливость и выдумку возвела в геройство. А дело это вот как было.
В то время Илларион Африкантыч в Большой Крюковке жил и был, как я уже сказал, барским холопом. Деревня же Малая Крюковка, что от Большой Крюковки в трёх километрах по прямой стояла, в то время только образовывалась, в ней селились как свободные, так и выкупившиеся от господ крестьяне. Деревню Малая Крюковка в то время называли «Выселками». Выселками называли потому, чтожителями её были в большинстве выходцы из деревни Большая Крюковка, переселённые в результате постоянного по весне затопления их домов водами речки. Большая Крюковка тогда называлась просто Крюковка. Слово «Большая» к названию прибавилось после того, как Выселки стали называть Малой Крюковкой. Вот такая история.
Хозяйство своё крестьянское мой прадед вёл исправно, да ещё помимо дохода с земельного надела, имел и побочный доход, потому копейка у него и водилась. Побочный доход у него был, понятно, с глиной связан – брал прадед в овраге глину, из неё лепил глиняные игрушки и продавал; как говорили в деревне – «копейку катал». Работа вроде пустяшная, но деньгу приносила, и не надо было из-за денежки в извозы ходить, нос в стужу морозить. Многие в деревне, глядя на Ларю, пробовали этим делом заниматься, да не получалось, дело это оказывалось не простым. К нему надо было сноровку иметь, вот так. Игрушки на базаре шли ходко.
Одним словом – был в большой семье прадеда достаток. А раз был достаток, то и хотелось Иллариону Африкантычу вольную получить и переехать в Малую Крюковку. Хотел то он хотел, да всё у него с барином это дело не решалось, потому, как со справным мужиком какому барину расставаться хочется, убыток один. Барыня, вроде не против, а барин ни в какую. Илларион же нет-нет, да к барину с таким вопросом и подступит, дескать, денег поднакопил, вольную бы, а барин всё отговорки находит, или возьмёт да сумму выкупа и увеличит. И вроде тоже прав – «не добрал, мол, Ларя, вот доберёшь, тогда и приходи, не откажу». Помнёт в руках шапку прадед, да и домой – плетью обуха не перешибёшь. Жена его, Анфиса, пока муж в сенцах топчется, уже знает, что опять Ларя с отказной пришёл, больно уж сердито за дверью лаптями стучит, не спешит в дом заходить.
Только тут, надо сказать, заковыка была не в одной Илларионовой справности. Чтоб всю историю понять, надо обязательно к ней ещё и другую приложить.
Зимой приехал к барыне на каникулы племянник то ли с Москвы, то ли из Казани, он в университете учился. Сам барин был заядлый охотник и племяша жены к этому делу пристрастил. Барыня всегда была противницей этого рискового занятия и вся душой изойдёт, пока глава семейства с охоты возвратится. Места наши зверем богаты; лесов, перелесков и оврагов, заросших деревьями и кустарником, не счесть, есть где зверю водиться. Прадед мой и его предки, тоже все охотниками были, так уж видно на роду написано. Я тоже немало с ружьишком походил – это от моего отца Пётра Андрияновича передалось, и его отец Андриян Илларионович с ружьём не расставался, а уж прадед Илларион был из заядлых, самый заядлый.
Снега в тот год много выпало, Илларион на лыжи да в поле, со своей шомполкой, за ним гончий кабель увязался, Гармаем звали, разноглазый: один глаз голубой, а другой карий. Гонец был – таких сейчас нет и будут ли, не знаю, сутками гонял. Бывало до того за зайцем ходит, что упадёт в сугроб и лежит как мёртвый. Его тогда, по словам моего отца, прадедушка Ларя в собственную шубейку завернёт, чтоб не простудился и домой на руках несёт, вот какая была собака. На неё все охотники в округе завидовали, а барин в первую голову. В последний раз, когда Ларя пришёл к барину вольную просить, так тот прямо и сказал: «Будет тебе вольная, коли гончака отдашь». Ларя насупился, ничего не сказал, ушёл и больше уже вольную не просил. Дворовые барина Анфисе про тот разговор сказали, та к мужу, дескать, отдай, раз просит, иначе не видать нам вольной, а Ларя на неё так посмотрел, что она больше об этом и не заикалась, вот, что значит для охотника хорошая собака.
Так вот, идёт Илларион на лыжах, он их сам сделал из липы, в стороне Гармай по полю рыскает, следы ищет, а низиной барин с племяшом идут без ружей, на сворке четырёх борзяков держат, они с одними собаками охотились и ружей с собой на охоту не брали. У барина борзые были что надо – пара одногнездников, по волку травленых. Одногнездники тем хороши, что друг друга хорошо понимают и друг за друга жизнь готовы отдать, а у спаренных собак из разных гнёзд, хоть и сведённых щенками, такой солидарности всё же нет. По волку, из читателей, что охотники, подтвердят, собачья сплочённость – первое дело, иначе и охоты не будет, и собак не досчитаешься, волк – зверь серьёзный. Но, всё, же ближе к делу.
Барин, значит, на сворке борзяков Дымку и Тумана ведёт, а племянник двух молодых, ещё не натасканных и по волку не травленых. Все борзые – ростом чисто телята, особенно Туман.
Увидел барин Иллариона, машет, к себе зовёт. Илларион подошёл, собаки Гармая не трогают, знают. «Давай с нами, – говорит барин,– Гармай из под земли зайца достанет, а уж от моих легавых он не уйдёт». Иллариону барину неудобно отказывать, пошли вместе. Прошли не больше километра, как Гармай с поля с поджатым хвостом летит и хозяину в ноги. «Волчёк рядом,– говорит прадед, – не далее как в том распадке, ветерок оттуда тянет, вот Гармай и учуял. Прошли ещё немного, борзяки стали с поводков рваться, тоже учуяли. А как на взгорок поднялись – тут и волки, да не один, а целых три, пара молодых и вожак, крупный зверина, матёрый, телёнка дерут. Молодые волки, как людей с собаками увидали, сразу еду бросили и по распадку уходить стали, а старый, даже ухом не повёл, ест и внимания не обращает. Ближе подошли – не уходит, как грыз телячью ногу, так и грызёт. Прадед стал шомполку с плеча снимать, а барин остановил: «Мы его собаками возьмём» и спустил Дымку и Тумана со сворок. Одногнездники сразу волка с ног сбили, охотники подошли – собаки рядом с мёртвым зверем лежат, языки высунули, на барина поглядывают, благодарности ждут. Только радоваться было рано. Матёрый оказался не так уж прост, и не мёртвый он был совсем, в себя пришёл, да как хватит Тумана за ногу, так шкуру до коленного сустава одним хватом и спустил. Туман завизжал от боли, крутнулся и лёг, всё – не работник. На волка сука набросилась, она помельче Тумана была, только куда там, зверь есть зверь.
Волка один борзяк не берёт. Дымка с волком на снегу вьюнами вьются, а прадед в это время шомполку на готове держит, но не стреляет, боится в собаку попасть; молодые и не травленые борзяки в драку не вступили. Дымка одна повозилась с волком, повозилась и бросила, волк намётом уходить стал. В это время прадед вдогон из ружья волка выцелил, нажал на курок – осечка, а тут каждая секунда на счету, ещё раз – опять осечка. Ружьё это ему барин почти за так отдал, когда себе новое купил. У него их три было. Когда ружья не было, Илларион зверя силками ловил.
После третьего взвода курка – ружьё выстрелило, только волк уже далековато был, однако после выстрела споткнулся, видно зацепило, но всё, же выправился и уходить стал. Посмотрели охотники то место, где серый споткнулся – кровь, значит ранен. Племянник барина берёт у Иллариона шомполку, молодой, горячий и за волком, я говорит, его достану, раненый далеко не уйдёт, крови много. Племянник по следу пошёл с шомполкой, а барин прадеда в село послал за лошадью, потому как Тумана даже двоим было не донести, тяжёл, а идти он не мог, видно крови много потерял.
Пока собаку отвозили – свечерело, а племянника всё нет, видно по кровавому следу утянулся. Барин говорит прадеду: «Иди, Ларя, домой, охотник не пропадёт, через час, полтора вернётся». Пришёл Илларион домой, поел овсянки, на печке полежал, отдохнул и за игрушки принялся, достал глины – стал свистульки лепить. Лепит он игрушки и слышит – в трубе подвывать стало, открыл на улицу дверь, а там уже и пурга, и позёмка разгон берут, ветер по соломенным кровлям пляшет, воробьёв вглубь застрех загоняет. «Так и до беды недалеко, – думает Илларион, – вернулся ли барынин племянник или нет?» Только так подумал, а тут от барина человек на пороге, так, мол, и так, Аркадий, так племянника звали, не вернулся, барыня в слезах, а Александр Михалыч велел, мужиков на поиски собирать, потому я и пришёл. Вот такая оказия из этой охоты вышла.
Собрались мужики, десятка полтора, бороды от ветра ворочают, кому охота в темень и непогодь в поле идти, барам забава, а им расплата. Барин барыню утешает, мужики же на поиски пошли, Илларион за старшего, так как только он один знал, в каком направлении Аркадий пошёл, потом он охотник, повадки зверя знает. Следы то уж почти занесло. Там где Дымка с волком возилась видно – наст пробит, да клочки шерсти кое – где, примороженые к насту, лежат.
Идут мужики, Аркадия лыжный след выглядывают, а какой там след – наказанье одно. Правда, с подветренной стороны оврага увидели, что волк на ту сторону речки вымахнул и в сторону Песчанки, через поле пошёл. Но это они больше догадались, чем увидели, потому как уже и темь навалила, и ветер вовсю играет, так что, ни следов, ни крика какого, не слышно. Шли, шли – остановились, потоптались, поогогокали в темень – в ответ ни звука, домой засобирались, дескать, может быть он уже домой с другой стороны пришёл, у охотника сто дорог, а мы здесь в поле ветер ищем, на том их поиски и закончились. Мужики домой повернули, а барина племянник Аркадий в это время только от преследования отказался, следа не видно стало, решил в поместье возвращаться.
Возвращается Аркадий, а так как уж много походил, то и устал, решил напрямую идти, так короче. Идёт Аркадий и много уж прошёл, а на пути ни кусточка и ни овражка. Думал: «Вот оно поместье, рядом» – да не тут-то было. А пурга и метель ещё пуще расходятся. Совсем устал охотник, вдруг лыжный след увидел, обрадовался. А того не подумал, что какой свежий след в такую непогодь? Пригляделся – его след, тут и понял, что заплутался, по кругу ходит и в какую сторону идти, не знает. Сел в сугроб, шапку снял, пот со лба вытер, стал вспоминать. Вспомнил, что по этому полю дорога идёт на большак, так Петровский тракт тогда называли, только где он? Вроде и место знакомо, а на тебе. Заплутаться то, вроде, негде. В какую сторону не пойди – всё во что-нибудь, да упрёшься. В сторону большака пойдёшь – упрёшься в Песчанский или в Мурский лес, они рядом; правее возьмёшь – тут тебе Мельников (овражек с леском) пути не даст, а чуть ближе, то Малая Крюковка; налево пойдёшь – в Стрелицу упрёшься. Стрелица – тоже овраг деревьями высокими заросший, до самой Песчанки тянется. Если в противоположную сторону идти, то Балашов лес на пути, левее – Лисий куст – рощица небольшая; ещё левее возьмёшь – или в Малокрюковский лес или в Сталоверкино упрёшься. Сталоверкино – лесочек небольшой перед имением, на горке. Если мимо Сталоверкино пройдёшь, то в речку угодишь, а то и в саму Большую Крюковку. В ясный день всё как на ладони и в непогодь приходится по этой «ладони» круги давать и никаких тебе кустиков, ни овражков, ни Лисьих кустов и ни Стрелиц.
Посидел Аркадий на сугробе, холодок стал потную спину брать, встал, снова пошёл. Ходил, ходил – из силы выбился, упал на снег; вьюга над ним пляшет, с боков сугробики наметает. «Нет, – думает, – так дело не пойдёт, этак и занести может, надо как-то выкарабкиваться». Встал, ружьё в снег стволом воткнул, нести сил нет, немного погодя, и лыжи сбросил, тяжёлыми показались. Шёл, шёл, снега по колено. Подумал: «Зря лыжи бросил, надо бы вернуться, взять». Только за мыслями действий не последовало, ноги назад не идут, снова в сугроб сел, стал осматриваться, а что увидишь? Ничего, кроме снежных торосов в двух от тебя шагах, да полузанесённые собственные следы.
Обидно Аркадию стало, аж слёзы на глазах выступили и тут же ледком на ресницах застыли, не хочется в двадцать с небольшим лет с жизнью расставаться, прилёг на снег, чтоб отдохнуть получше. Думает: «Полежу немного, сил наберусь и пойду». Но не тут-то было – дрёма стала одолевать и сладостно ему так, хотя и понимает и много слышал о том, как люди замерзают, и что его состояние схоже с теми, кто в такой переделке был, кого нашли и от смерти спасли. Знает это Аркадий, а руками и ногами шевелить не хочет, вот так бы лежал и лежал, только сон одолевает, а сон – это плохо. Знает Аркадий, что во сне только люди и замерзают, и хочет он со сном бороться, да с каждой минутой ему это всё труднее даётся. И сон, кажется, уж совсем одолел охотника; даже, вроде, желание бороться за жизнь пропало, в голове картинки всякие из детства проносятся и все с летом связаны, нет в голове у Аркадия зимних картинок, а всё лето, пара сенокосная и от жары ни куда не спрячешься… И всё в этом роде.
Конечно, прадед мой этого рассказать бы не смог, если б от самого Аркадия не услышал, барынин племянник – то жив остался. Как Аркадий объявился, так прадеда моего, как главного «виновника» спасения, барыня за стол, и не на кухне, а в том месте, где важных гостей принимают, а ведь и было за что. Барин за столом стопку поднимает за здравие Иллариона и его семейства и при этом просто, но не без витиеватости в выражениях говорит: «Охотник охотника нашёл, потому как, не хвалясь, будет сказано, охотник из простых любого смерда повыше будет, потому как интеллектом и чувствительностью особыми обладает, а без этого интеллекта охотничьего и чувствительности – охотников не бывает, потому как охотничий люд – каста особая, не в пример другим… Вон! Целая стая бараньих шапок в поле Аркадия искать вышла, а толку?!». И так всё красиво говорит, на повышенном тоне, с апломбом и всё охотничье призвание восхваляет, Будто бы, не будь охотничьей смекалки, то и дело могло бы кончиться плохо. Отчасти это и так, но только отчасти. Дело в том, что когда мужики, что в поисках участвовали, по домам стали расходиться, то и Илларион домой пошёл, а потом назад вернулся и в поле направился, дорогу, что на Петровский тракт проверить, там и наткнулся на Аркадия. Об этом и пытается сейчас сказать Илларион за столом, потому как ему от этой барской речи было не по себе. Будто он сделал что-то великое. «Я, – говорит он барыне и барину,– сам в последний момент об этой дороге подумал, когда уж мужики разошлись, вдруг, думаю, на дорогу вышел. Если плутал, да недалеко оказался, не мог не выйти».
– А ты молчи!– говорит барин, перебивая Ларю,– ешь, пей и молчи, твоё сейчас дело такое: есть, пить и, что я говорю, слушать! – и опять палец вверх поднял. Так бы и слушали витиеватые речи барина, если б сам племянник в разговор не вступил.
– Не охотничья смекалка,– говорит,– в чудесном моём спасении главная, а самая обыкновенная глиняная игрушка.
– Как игрушка!? – удивился барин, и бровь от удивления ещё выше поднял. После Аркадиевых слов с него как-то спесь охотничья слетела, а дальше уже слушали спасённого.
– Совсем уж я замерзать стал, – говорит Аркадий, – и вдруг до меня звук доносится не похожий на другие звуки, каких в поле не бывает, как будто колокольчики перезванивают. Думаю: «А может быть, я уже умер, и это благовест слышится? Говорили, что человек после смерти ещё какое-то время слышит, не все органы сразу отмирают, вот я и слышу как колокола небесные трезвонят». Однако ощущаю, что не сплю и до слуха действительно эти странные звуки доходят. Непонятные звуки меня как-то встряхнули, дремотного состояния как не бывало; стал прислушиваться – как ветерок посильнее, так и звуки поярче. Вроде тройка с бубенцами. Сил уже на ноги встать не было, пополз на перезвон.
Дополз я до какой-то палки, из сугроба торчащей, вроде от неё перезвон исходит, стал ощупывать, рука на какой-то предмет на вершине наткнулась, взял предмет в руку – звон прекратился. Предмет был к этой палке привязан. Оторвал его от палки, к глазам поднёс – колокольчик игрушечный, глиняный, с коняшкой наверху, к язычку деревянная плашка привязана, её ветер раскачивает, а она, в свою очередь язычок тянет, тот бьётся о стенки, и колокольчик звенит…. Вот, оказывается, кто в поле вызванивает… Сначала обрадовался, а потом приуныл – какой мне толк от этого колокольчика,… в снег бросил, чтоб не смущал, прилёг – опять перезвон доносится, пополз на звук, где встану, где упаду и снова палка, а на конец палки тоже такой же колокольчик привязан. Понял я, что это не просто палки, а вёшки с хитроумными приспособлениями на концах, что трезвонят и путникам дорогу показывают. Обрадовался, аж зубы от радости стучать стали, за челюсть схватился, а зубной дрожи остановить не могу. Где ползком, где на карачках, где ноги переставляя, двигаюсь по вёшкам, на слух ориентируюсь, вёшки ведь в темноте не видно, а как до следующей вёшки дойду, так, тот колокольчик целую. Дополз бы или нет, не знаю, обессилел совсем, а тут мне навстречу Илларион…
– И без меня бы дошёл, – встрял мой прадед, – до дворов уж сажен сто осталось, вёшка б вывела…
– Не выбрался бы, дядька Илларион, – если б не твоя смекалка!.. – говорит племянник.
– А причём здесь смекалка, если ты на вёшки вышел, и по ним шёл?– спрашивает барин.
– А притом, что эти колокольчики сделал и к вёшкам Илларион привязал, – сказал Аркадий. – А не будь этих глиняных колокольчиков, то меня и в живых бы не было.
– Правда? – спросил строго барин, поворачиваясь к Иллариону.
– Истинная, правда, – сказал прадед. – Нехорошее это место, многие там плутают,.. вот я и решил….
А барин его перебивает:
– А я что говорил! Только охотник и мог до этого додуматься, – и опять пальцем над головой жестикулирует, – охотничью смекалку ничем не заменишь…. Игрушечники по полям зимой не ходят, это удел охотников! Вот охотник об охотниках и постарался… Верно, я говорю!..
Тут племянник из-за стола встаёт, снимает с вешалки меховую шапку с рукавицами и даёт прадеду, «от меня – возьми, не откажи».
– А от нас вольную, – говорит барыня Быстрякова, а сама слугу зовёт и приказывает, чтоб прибор чернильный с бумагами нёс.
Так мой прадед вольную и получил. А как вольную получил, то и в Малую Крюковку с женой Анфисой переехал жить, в Малой Крюковке тогда только два – три дома было. Потом Столыпин народ в Сибирь позвал. Так старшие дети Иллариона, что от Фимы родились: Николай, Алексей и сестра Акулина в Сибирь подались, а мой дед Андриян, которого из Большой Крюковки в Малую Крюковку Илларион мальцом привёз, с отцом остался. Потом у Иллариона с Анфисой ещё Фёдор народился, самый младший.
После Иллариона мой дед Андриян игрушкой стал заниматься, да по пороше с шомполкой за зайцем ходить. В роду Африкантовых охота в крови, никуда от этого не денешься. Только немного Андрияну пришлось поохотится, сменил шомполку на трёхлинейную винтовку и пошёл воевать, началась Первая мировая война. И не вернуться бы ему с тех иссечённых пулями полей, кабы не глиняная игрушка и сказка. Только это уже совсем другая история.
Как деду Андрияну сказка да игрушка жизнь спасли
Когда я был маленький, то очень любил слушать и читать сказки, я и сейчас сказки очень люблю, любили их мой отец Пётр Андриянович и дед Андриян Илларионович. Андриян Илларионович из-за любви к сказкам, можно сказать, жив остался, и даже серебряный Георгиевский крест заслужил. А дело было так. Шла Первая мировая война, мой дед находился на передовой, в окопах. Немцы много раз пытались взять штурмом русские укрепления, но это им никак не удавалось. Командир роты, в которой находился дед, был отважный офицер и к тому же большой любитель сказок. Отбили русские солдаты за день несколько атак противника, темнеть стало, немцы вроде приутихли. Солдаты наши спать стали ложиться. Отдых солдатский простой – на шинель лёг, шинелью накрылся, да кулак под голову сунул, вот и всё. Спит рота, то тут, то там храп раздаётся, одни часовые не спят, за неприятелем наблюдают, а десяток солдат и командир среди них, около костра греются, портянки сушат, сказки да байки всякие рассказывают. Мой дед глины красной в воронке от взрыва немецкого снаряда набрал, смешные фигурки про неприятеля лепит. Слепил свинью, ей немецкие погончики прицепил, а на голову каску пристроил, солдаты хохочут, забавно получилось.
Заговорились, заслушались солдатики, а дело уже за полночь. Вдруг командир как на ноги вскочит: «Газы!» – говорит. Он один под неприятельскую газовую атаку попадал и знал, что в это время делать надо. Кинулись людей будить, а будить – то и некого, все до одного мёртвые лежат, от газа погибли, остались лишь те, кто около костра сидел, да сказки слушал. Ядовитый газ к костру не мог подойти, его тёплый воздух отгонял. Что делать? Утром немцы в атаку пойдут, а защищать позиции некому. Собрал командир оставшихся в живых бойцов, кто у костра был и говорит:
– Делать, братцы, нечего, надо фронт держать.
– Как же мы его держать будем, когда нас на всю линию обороны осталось, что можно на пальцах пересчитать?– спрашивают бойцы.
– Так и немец также думает, что он нас всех газом погубил, – возразил командир, – пусть так он и думает, а мы ему поможем в этой мысли утвердиться, будем сидеть тихо, как мыши, вроде нас и нет. Как только немец в атаку поднимется – мы его до самого бруствера допустим, а потом из пулемётов и ударим.
Командир же думает: «Солдат у меня совсем – ничего осталось, только к пулемётам поставить, здесь главное, чтоб не запаниковали, нервы у солдатиков выдержали». Тут он голоса слышит, солдаты разговаривают.