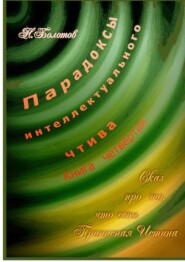По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ПАРАДОКСЫ интеллектуального чтива. Книга шестая. Девять эссе – «Все про все»!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лучше всего для этого подходит пучок какой-нибудь шерсти.
Осматриваю подходящие стволы, о которые кабан может почесаться….Нет ничего, никто не чешется!?
Быть такого не может!
И нахожу небольшой пучок шерсти на крутом боку здоровенного валуна. Осторожно собираю его, прячу в карман, и как только делаю пару шагов на реку, из-за этой скалы, по течению ко мне, плывет большущая стая крохалей. Они и старые, и малые в это время еще не полностью вылиняли и летают плохо и неохотно, а только мастерски ныряют при опасности. Хватаюсь за ружьё и, понимая, что оно не заряжено, лихорадочно вставляю два патрона.
Стреляю в стаю…..в Момент вижу, попал!
Но от отдачи выстрела поскальзываюсь на мокром валуне и с головой ныряю в омут.
Выскакиваю, выливаю воду из створов и стреляю в отставшего подранка. Остальные одним нарком уже за сто метров ниже по течению.
Вылавливаю в реке добычу.
Как-никак, а три кило утятины, это уже что-то!
Правда по опыту знаю, что крохаль здорово припахивает рыбой, но если его не варить, а обжарить на костре, он (да ещё «под дичь» со спиртиком, которого для консервации растительных образцов у нас в достатке) – просто пальчики оближешь!
Возвращаюсь к костру, сушу одежду, согреваюсь во благе, хотя вроде бы вообще достаточно тепло.
Мастерю себе «мыша».
На обычный «тройник» крепко наматываю пучок шерсти, чтобы он хоть малость походил на плывущую мышь, тщательно подбирая баланс, чтобы он скользил по воде и не тонул.
На это уходит много драгоценного времени, как потом оказалось, потерянного впустую……..Но в тот момент я был очень доволен своим таёжным менталитетом и уверенно вышел на быстрину реки со спиннингом ловить ленка на «мыша».
Это несложно. Забрасываешь эту шерстистую блесну и стараешься вести проводку поперек реки и немного вниз по течению, подражая плаванью этого мелкого грызуна.
Сразу схватил хороший ленок, но затем почти ничего.
Словно эта рыба знает, что сейчас не время питаться мышами. За четыре часа поймал пят штук. Иду назад к стоянке, собираю с берега свой улов, на взгляд килограммов 9—10. Про себя думаю, что вроде и не плохо, но что-то подсказывает мне, что я где-то пролетел.
В чем-то дал таёжного маху?!
Впрочем, раздумывать было уже не когда. Стала к вечеру возвращаться вся остальная «охотничья рать». Вид её для меня был – просто бальзам на сердце.
Ведь говорил же, ну куда попёрлись!
Нагорная бригада, так ничего «съедобного» и не увидевшая в лесу, вся в синяках и царапинах, бросилась заливать ссадины йодом. А уже в сумерки явившаяся левобережная пара «лосиной охоты» была вообще в жалком состоянии. Мало того что один из них чуть не утонул, при переправе на быстрине ударившись головой о валун и при этом потерявший ружьё, другой там же сильно подвернул ногу и мог идти только с помощью товарища.
Оба, рассказывая о свих скитаниях по бесконечной болотной мари, сильно удивлялись, что ни одного лося даже в бинокль не видели.
По сравнению с нашими воронежскими лесами это был для них (заядлых охотников на подкормленных оленей и лосей) нонсенс!
Мои доводы, что это нормально, поскольку соответствует разнице в норме пищи в северной горной тайге и в европейских лесах. Если бы лосей на единицу площади в этой тайге было столько же, сколько и в наших охотхозяйствах, то от неё мало бы что осталось.
А помимо того здешний лось не прикормлен и он ваш запах
(оба – злостные курильщики) за версту чует.
Но их расстройству не было предела до тех пор, пока менее истощенная охотничья бригада под моим чутким руководством не угостила их ухой и жаренными крохалями.
В общем, кое-кому из нас тот праздник Лесника надолго запомнился.
А мне особенно!…Я это опять про смутное своё подозрение, что, как таёжник, я где-то здорово опростоволосился!
Больше нам никакой охотой заниматься было некогда. Мы едва успели выполнить намеченный план НИР, как за нами прилетел наш Ми-4.
И пока мы загружали, заранее собранный и упакованный экспедиционный скарб……..При работающем двигателе, бортинженер вертолета, выскочив со спиннингом, буквально за пяток минут (на том же самом месте, где ловил и я) тремя закидками обычной блесны, без всяких наворотов, ловит 3-х ленков, бросает их в салон, прыгает сам и мы взлетам…..
Как в цирковом фокусе!
Как говорится, позор на мою «седую» по тем временам голову.
Век живи, век учись!
Мало знать что-то про выживание в тайге, следует знать и местные условия, и обычаи.
Я же соображал, что может быть для ловли на «мыша» время ещё не пришло!?… Но побороло самомнение о собственном «всезнании».
Ну, да ладно, хотя и обидно!
Вот хотел далее перейти к более ранним событиям, к дневнику моего начала самостоятельной производственной экспедиционной жизни, но вспомнил про своё обещание рассказать о втором годе моей студенческой практики в лесоустройстве.
Он в плане приключений совсем никакой, так как я и двое моих сокурсников лесохозяйственного факультета ВЛТИ без малого четыре месяца проработали фактически в одном месте. В одном глухом закоулке Таштагольского района Кемеровской области, в местах, куда ещё не дошли обычные лесозаготовители, но уже давно располагались таёжные первопроходцы – лагерный пункт зэков особого режима.
Это совершенно по тем временам неудивительная специфика первоосвоения новых территорий……
И хотя сейчас политическая «либеральная общественность» хором утверждает, что это делалось за счет здоровья и жизни политзаключенных, на самом деле основная тяжесть каторжных работ выполнялась уголовными зэками.
Так что я опишу некоторые «производственные» детали этого освоения, с акцентом на удивительный детектив!…
Но сначала о том, как я туда вообще попал.
Так вот, покуда зэки не освоили эти территории (то бишь не вырубили все ценнейшие девственные леса), кафедра таксации ВЛТИ решила составить таблицы хода роста (для науки и потомков) уникальных лесов – Алтайских кедровников.
Для этого обычно сплошной рубкой валится гектар типичного насаждения, модельные деревья по ступеням толщины раскряжевываются на 2-х метровые обрубки, по подсчетам и замерам годичных колец которых восстанавливается общая картина хода роста данного насаждения – от проростка до настоящего возраста.
А возраст этих кедрачей был вообще максимальным – до 350 лет!
И некоторые стволы имели диаметр на «уровне груди» (как принято замерять в лесной таксации) – более метра.
Я специально подчеркиваю эту деталь, поскольку она будет неким подтверждением возможности осуществления реальной детективной истории.
Итак, я в качестве научного лаборанта занимался ежедневным подсчетом и замером годичных колец на моделях, сваленных и раскряжеванных зэками на лесосеках.
Как вы себе представляете работу такого зэка в лесу вообще?