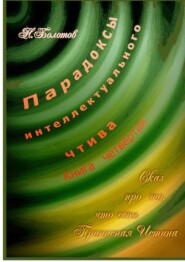По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ПАРАДОКСЫ интеллектуального чтива. Книга шестая. Девять эссе – «Все про все»!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А во-вторых, в те времена никакого более «мощного» легковесного «гражданского» оружия не было. Гладкоствольный карабин типа «Сайга», под «калашников», появился только в 1974 году. А его дальнейшая убойная мощь под боевой АКМ развивалась в лихие 90-е. Это тогда появились парадоксально уродливые конструкции типа «Тигр» и прочие (нарезные карабины с оптическим прицелом). По мысли разработчиков, также как и городских телеохотников, мечтавших заполучить в свой пантеон шкуру уссурийского тигра, видимо, следовало, что оптический прицел поможет лучше «разглядеть» в лесной чаще притаившегося тигра.
А разглядевши его в деталях, всадить в жертву, как минимум десяток пуль, чтоб наверняка!?
Ну, насчет числа пуль – это оправдано, поскольку современные браконьеры (не бог весть какие снайперы) знают, что одного «калаша» может и не хватить. Поэтому охотятся по двое-трое, со сворой специально натасканных лаек.
Но вот то, почему они не используют при этом 6-10-ти кратных прицелов к карабину, не догадываются современные кинопродюсеры. Что очевидно из просмотра современных боевиков, в которых «супер спецназ» гоняется за бандитами в густом лесу, тщательно высматривая оных в оптический прицел.
В средней уссурийской тайге с «полнотой насаждения» 0,8 (есть такая категория сомкнутости лесного полога в лесной таксации) ничего в бинокль разглядеть вообще невозможно, поскольку далее 25 метров уже ничего не видно за лесным пологом.
По опыту своих оптических измерений в лесу могу сказать, что любая оптика, а тем более длиннофокусная, многократно снижает не только угол зрения, но и стереоскопичность оного. Поэтому любой кино спецназовец, уставившись в объектив прицела, и стремясь разглядеть камуфляж противника за «крупняком» плоского плана какой-то веточки, рискует «проморгать» целое дерево, из-за ствола которого получит удар прикладом по затылку.
Браконьер же от тигра может поиметь когтистую смертельную рану. Вот почему они охотятся вооруженными до зубов, осторожно оглядываясь по сторонам всей своей бандой без биноклей. Чему видимо надо, поучиться и спецназу, во всяком случае киношному, если он показывается не только для полных идиотов.
Но это я так теперь вижу эту проблему. А тогда мне однозарядной мелкокалиберной винтовки ТОЗ-8 образца 1932 года было вполне достаточно, чтобы, не отрываясь от работы, принести, по случаю, к вечеру пару рябчиков или зазевавшегося тетерева или зайца.
Специально я никогда и ни на кого не охотился (имея в виду конечно дичь).
Хотя неплохо стрелял.
Это обстоятельство вполне может проистекать из того, что как- то не пришлось стрелять по всему, что угодно, без ограничения. Я уже не имею в виду дебильноватые компьютерные «стрелялки», в которых 30-летние дитяти палят из танковых пушек друг в друга, даже не считая снарядов. Компьютер сам подскажет, что остался последний, чтобы самого себя подорвать.
В те времена патронов к мелкашке было найти трудновато, а другого оружия как-то и особо не представлялось.
Помниться, что даже на военных лагерных сборах по окончании вуза пострелять из «макарова» тоже «в норме» не пришлось. До сих пор таю обиду на того капитана, который проводил контрольные стрельбы.
А дело было так……
Несмотря на то, что наш выпуск по военной запасной специальности готовился на штурмана фронтового бомбардировщика Ил-28, по сокращении боевой авиации Никитой Хрущевым, нас «списали» в ВДВ.
И по такому случаю этот капитан-инструктор по стрельбе, построив нашу группу из 30 курсантов в чистом поле, с одном столом и одной мишенью на 25 метров, дает вводную по известной песне: – «Потому, потому что мы пилоты……» – то есть, стрелять не умеем, с каждым работаю персонально.
Одного вызываю, остальные сидят тут на травке, и греются на солнышке.
Никто и ни куда, ни на шаг!
Порядок стрельб такой: – Сначала делаем три выстрела из «макарова». Кладем пистолет на стол, подходим с курсантом к мишени, отмечаем пробоины….. Соображаем по вопросу неудачной стрельбы!?
Потом возвращаемся в исходную позицию и по моей команде исправляем многочисленные выстрелы в «молоко». У вас остается на эту операцию пять зачетных выстрелов. Зачет 27 из 50. Повторов не предусмотрено, условия тут для младенцев, кто не сдаст – в офицеры произведен не будет.
Ясно!
Команда недружно отвечает в том смысле, что понятно….
Капитан рычит: – Отставить! Отвечать по уставу!!!
Моя 514-я штурманская студенческая группа, вытянувшись в струнку, нескладно рявкает: – Так точно…… Господин капитан-с……. Товарищ капитан-с, не расслышав этот нестройный хор, довольно командует: – Вольно и……. Разойтись!
Мои однокашники усаживаются на травку. И я, по списку на «Б» первый, открываю стрельбу…….
Идем с капитаном смотреть: 8-ка,9-ка и 10-ка.
Возвращаюсь довольный к столу, на котором лежит «мой макаров» с контрольными 5-ю патронами, хочу взять пистолет в руки, как капитан командует:
– Стрельбу отставить! Курсант Болотов стрельбу закончил, зачет- 27 очков.
На мои нескладные возражения, типа отдай мне, что положено, следует ответ-приказ: – У меня каждый патрон на счету, поэтому после стрельбы собираем гильзы!
Делать нечего, собираю свои три гильзы и усаживаюсь на травку, к что-то про себя соображающим собратьям.
Что они на сей счет сообразили, ясно из того, что далее никто из них меньше 8 выстрелов не производил, и естественно, все зачетную норму выполнили.
Это я не про состояние нашей советской армии в те времена, а про тот запасной её «материал», которому и пострелять в удовольствие не пришлось.
Но я по таким мелочам на Советскую Власть не обижаюсь.
Она дала мне возможность совместить мою тягу к таёжным путешествиям с полезной производственной функцией приведения в известность бескрайнего и по большей части ещё неизведанного «зелёного моря» наших лесов.
Лесная таксация в системе «Всесоюзного лесоустроительного предприятия» давала возможность организовать в них рациональное хозяйство с десятилетним сроком повторного лесоустройства. Именно поэтому тогда в лесном хозяйстве был относительный порядок, совсем не так ка сейчас. Регулярное обследование лесов вот уже 30 лет, как почти полностью отсутствует.
Лес рубит кто угодно, в любом возрасте, неизвестно куда вывозит, и никто лесосек не восстанавливает. Тайга горит там, где никогда не горела. Пожары тушатся неделями с применением современной могучей техники, армией и «зелеными» добровольцами…… Раньше с этим делом запросто справлялся один лесник, который просто отлавливал поджигателей.
В других случаях лес спасала противопожарная авиаохрана лесов, смысл которой был в ежедневном патрулировании легкомоторной авиацией первичного возгорания и экстренного тушения очагов пожара небольшой десантной группой профессионалов.
Сейчас, во время спутниковой связи, про пожар становится известно, когда он (а по-прежнему лес горит в 90% случаев от поджогов населения) «неожиданно» подходит к домам не только лесного поселка, но и областного центра!?
При том почти всегда, так неожиданно, что жители выскакивают (по передачам ТВ) в одних портках, позабыв даже прихватить нужные документы.
Большего бардака власти в организации лесного хозяйства страны придумать не возможно……
Но я опять отвлекся.
Ведь обещал про таежные приключения!?
Ну, вот вам основное, в связи с которым я никогда не охотился на крупную дичь, хотя вокруг было полно изюбря, лося, кабана, пятнистого оленя, косули и помельче, вроде кабарги и пр…….Дело было осенью 1962 года в том самом моем заветном месте – бывшем поселке лесозаготовителей на Стеклянухе.
В 50-х годах на этом месте лес был вырублен и подзарос разной порослью при сплошном высокотравье. Идеальное место для осенней охоты на косулю. И вот как-то, по наводке местного лесника вечером в пятницу, к нам на табор завалилась целая кодла охотников из Владивостока с целью раздобыть рога красавца самца косули, которого тот самый лесник и выследил.
Вся эта бригада на хорошо оборудованных «засидках» две ночи подряд ожидала этого красавца. Но он каким-то образом, как поутру в понедельник перед отъездом группы рассказал лесник, «нюхом обходил засидки», кормился рядом, но в безлунные ночи никто его не увидел и не услышал!
Рано утром вся охотничья компания погрузилась в грузовик лесозаготовителей, и отбыла восвояси. Я же, как всегда взявши мелкашку, отправился по проезжей, довольно широкой просеке на работу. И только отошел метров за двести от поляны, как вижу в 100—110 метрах дорогу, этак степенно и не торопясь, переходит козёл косули.
У меня, видимо, сработал охотничий инстинкт.
Мигом падаю на землю, в лужу, одновременно стаскивая с плеча ружьё. Козел уже почти скрылся за стеной леса, остается видимой (точно помню – половина туловища). Стреляю ему в пах.
Слышу – попал!
Пуля мелкашки при попадании издает в такой момент характерный хлопочек, словно выстрелил в подушку. Козел делает быстрый прыжок и скрывается от обзора.