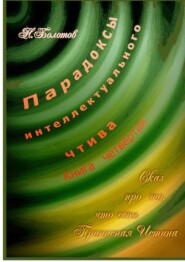По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ПАРАДОКСЫ интеллектуального чтива. Книга шестая. Девять эссе – «Все про все»!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По такому случаю предложили нам сыграть в волейбол, но быстро отказались от этой затеи, поскольку (на их взгляд) с мячом нельзя «так небрежно обращаться». И он (мяч) был тожественно вынесен с «поля боя».
18 августа мы в полете на пути в М. Кему над океаническим побережьем…..Впечатление …тихого Восторга!
В этот солнечный день вода и скалы – всё сильно напоминало Кавказ или Крым. Но….но абсолютное отсутствие человека на берегу сказочно сине – синего океана придавало ему неописуемую дикую привлекательность. Казалось, открою сейчас дверь и нырну в эту бездонную сказку, став первым в ней небожителем.
Черт возьми, мне точно везет на прекрасные горные пейзажи: Алтай, Кавказ, вот теперь Приморье!
Те же хребты со склонами в 40
те же хрустально чистые горные ручьи и речки, те же сурово дикие места, основное качество которых можно выразить так: много дичи, ещё больше рыбы, неимоверно много леса и полное отсутствие Homo sapiens.
Все немногочисленное население края почти исключительно, как и во времена Арсеньева, ведет бродячий образ жизни, правда качественно здорово при этом изменившись. Оно почти целиком состоит из геологов, лесоустроителей, топографов, геофизиков и прочей шатающейся из края в край братии.
22 августа. Не перестаю удивляться красоте горных речек! Вовсе не хочу обидеть наши среднерусские лесные речушки с их удивительно мягкими лирическими пейзажами, которыми можно упиваться бесконечно.
Но горная речка – это явление яркое, искристое, шумливо-веселое, вместе с тем напористо мощное, однако не лишенное некой таинственно щемящей таёжной красоты.
Можно часами вглядываться в то изумрудные, то хрустальные струи её или рассматривать в мельчайших подробностях, приближенное толщей воды, дно глубокого омута, где со сказочной неожиданностью свет и тень создают калейдоскопы постоянно меняющихся видений.
Но не стоит полностью доверяться этой сказочной красоте. Мощное течение всегда готово сбить с ног «влюбленного» и бросить в кипящие ледяные водовороты и перекаты. Словом, горная речка – это ослепительно сверкающая, коварная красавица в сравнении со спокойно широкой, лирически величественной русской речной красотой.
И я не отказываюсь от этих слов даже после вышеописанных реальных событий, свидетельствующих о том, какую ярость может в себе таить даже такая прекрасная горная речушка как Стеклянуха, когда она находится «не в духе».
23 августа между делом попробовали ловить рыбу. Тут детали нам разъяснил местный абориген. При ловле гольца – он же «морская форель», которая никогда в мое не жила, поскольку это речной лосось (с очень вкусным, как оказалось, мясом, прекрасно коптиться). Что, в общем-то, и не удивительно.
Удивляет простой способ его ловли!
Забрасываешь, в любую яму под перекатом, на любой леске тройник и, подергивая удилищем, засекаешь гольца за спину, плавники, хвост или любое другое место, но только не за рот.
Мои друзья от такой неожиданности позабыли про другие небраконьерские способы рыбной ловли.
Мне же такая, не по душе.
Я даже не могу ловить рыбу на обычную «закидушку», когда она сама себя ловит.
Тем более такой варварский способ!
Он важен для выживания, а не в порядке охоты (само это слово от хотения, а не от необходимости).
Поэтому пробовал ловить речную форель.
Её в местных речках также множество. И хотя её почти никто здесь не ловит, она удивительно осторожна. В спокойной воде видит рыболова лучше, чем тот видит её.
Вспомнил свои навыки ловли форели в обжитых кавказских речках, где на каждую форель по два рыбака, где я когда-то, на перекатах, притаившись за кустом, на ручейника наловил целую снизку.
Однако мою местную занимательную охоту-рыбалку (кто-кого обхитрит) прервал ленок (ещё один местный лосось), пулей выскочивший из ямы и оторвавший леску.
Другой рыбы я в тот день не видел.
31 августа. Пришли из 5-ти дневного «захода». Это такая работа – когда просто ходишь, ходишь, «покемаришь» ночью у костра и опять пошёл. С непривычки устали, потерли ноги. Но видели такие картины, которые можно разглядеть только с вершины главного хребта. Вчетвером вскарабкались на «каменную бабу» огромный останец – и полчаса таращили глаза на синеющие в дымке лесные дали.
1 сентября. Великий праздник – начало учебного года, который меня и моих друзей впервые лично не касается. Но спортивная составляющая нашей бригады, пока другая половина готовила «закусь», рано утром трусцой сбегала в Терней (за 30 км и обратно) и вечером мы не ударили в грязь лицом, то есть встретили праздник, как положено ветеранам.
2 сентября. Как и положено после праздника – отдыхаем, ловим рыбу
3 сентября ловим рыбу и отдыхаем.
Всё у нас хорошо, только вот завтра опять в «заход». Здесь наш палаточный городок «на курьих ножках» чуть выше речных приливов, живет почти курортной жизнью. Раз в две недели «почта» в лице начальника партии нам доставляется. Кроме того, при желании, раз в неделю можно «поймать» за 8 км грузовой вездеход на Малую Кему……Словом заповедная глушь с начала века сильно изменилась. Исчезли в качестве транспортного средства олени и собаки, появились вертолеты и автомашины (чаше тракторы с прицепами), остался, в несколько раз сохранившийся, гужевой транспорт (злые языки связывают это с появившейся в продаже конской колбасой). Но остался основной вид передвижения – пеший.
7 сентября – льет нескончаемый приморский дождь. Не останавливаясь ни на минутку, и не усиливаясь. Странный монотонный, настоящее серое безмолвие……..
8 сентября. Дождь надоедает, и мы пытаемся, по примеру аборигенов ловить острогой гольца. Это оригинальный и запоминаемый процесс ничем не напоминает классическую охоту с острогой ночью при свете пучка смоляных лучин, когда стараясь не произвести малейшего шума, рыбак быстро поражает застывшую в глубине рыбину.
Тут же – совершенно противоположная технология.
Трое здоровенных «рыболова» с трехметровыми острогами, которые вовсе не остроги, поскольку на концах 3-х-зубой вилы отлиты шарики, носятся по всей речке, покалено в воде, и мечут свое орудие по любой видимой и невидимой цели. Почти часовой шум, гвалт и полная неразбериха кончаются тем, что почти вся рыба разбегается вверх и вниз из ямы, а «рыбакам» остается пара-другая гольцов, не успевших скрыться.
И тогда домой (на табор) идет ликующая процессия, мокрая до корней волос от всей льющейся с небес и от речной воды, осипшая от крика, но донельзя довольная своим успехом.
Так и запоминается этот дождливый день.
А вообще-то прообраз этой охоты, почерпнутый нами у аборигенов, весьма удивительно рационален. Сноровка их такова, что бросая острогу на 7—8 -9 метров они почти в 100% случаев попадают в быстро плывущую, рывками и зигзагами, рыбину!
Благо она, как чавыча, может быть длиной в метр и более.
21 сентября. Мы переехали на Сухой ключ. Все мои помыслы об этой поездке. О том постоянно напоминают все многочисленные синяки и ссадины на всех частях моего несчастного тела. Их появление вызвано не только особенностями местных дорог, но способами таежного вождения автомобилей.
Что касается дорог, то они отличаются от леса только тем, что деревья на них встречаются всё-таки пореже. Но все остальное полностью компенсирует это преимущество. Грязи, воды и колдобин на дороге много больше чем в лесу.
Однако лес и дорога здесь удивительным образом органически связаны.
Увязшие в грязи по самые фары машины выволакиваются с того света при помощи лебедок, опорой при этом служат деревья. Если требуется объехать «дорогу», её объезжают по лесу. Оттого часто случается шоферу и заблудиться в лесу на собственной машине.
Но это не вся история.
Она связана с тем, что тут правила дорожного движения регламентирует не ГАИ, про которую здесь ходят только слухи, что она буде где-то существует, а некая почти языческая духовная связь машины и шофера, про которую мне «как на духу» поведал Василий – удэгеец шофер нашего Газ-66.
По его рассказу выходит, что машина и шофер тут «завязаны» пожизненно. Если, к примеру, ты заправил машину, а сам не полностью «заправился», то бишь просто хорошо поел, то машина этого может и не простить. Она воспринимает это как личную обиду и при случае объявит бойкот работе и будет глохнуть через каждые сто метров или, наоборот, самовольно рыскать по лесу. А обычно просто зарывается носом в грязь и похрюкивает выхлопом от удовольствия.
Но Вася говорит, что стоит только малость «подзаправившись», и сесть за руль, всё чудным образом налаживается. С этого момента машина уже не глохнет, не ездит самопроизвольно по лесу и исправно выскакивает из любой колдобины.
Правда всё это весьма характерно сказывается на пассажирах.
Их не просто трясет, а просто выбрасывает из машины, если не вцепиться в борта руками и не удержаться с божьей помощью и с помощью некой ненормативной лексики. Но и даже и тогда, когда кое-то и вываливается за борт, всё рано, помятуя истину, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, взбирается опять в кузов с тем, чтобы получить полностью причитающуюся ему порцию тумаков, а за одно и поразмыслить о бренности таёжного существования.
Всё вышесказанное – это не моя юмореска, а почти дословная запись 1961 года мироощущения Василия Джансиновича Дункая, чистокровного удэгейца, чьи предки были «охристианены» в прошлом веке, но который на тот момент был атеистом и комсомольцем. Тем не менее, языческий лесной дух предков оказался настолько живучим, что породнился даже с автомобилем.
Всё это было написано давным давно, но оказалось весьма злободневным в моей сегодняшней писательской работе.