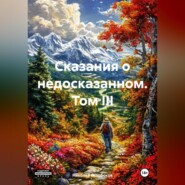По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сказания о недосказанном. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Выпишут, приглашаю, пойдём ко мне домой, чаем угощу. Жена сказала, ты хорош парень. Помнишь, чай пили у нас.
… И вот день как день, скорее – ночь. Пришёл. Явился и не запылился. Завели, привели, в какую то проце – дурную. Дала сестра безопасную бритву, тогда это было сказка. Ну как той опасной, обоюдоострой, бриться. Да ладно бы лицо, шею, а тоо. ЭТО…
– Эх, ма! Брить промежность и самому, этот драгоценный участок, не тяпкой чернозём для картошки, а своё, не знавшее бритвы даже на бороде своей, не то, что которую собираются потрошить.
… Когда хирург, потом, моя спасительница, правда, пожилая, не девка, не практикантки, в окружении тучи студентов и учителя, такого ремесла, юные красивые, смотрели и катали в ладонях, мои ядрышки орешки, сказали бы, это, не сложно… а потом пропели бы…
– Ого, то не гроша, жидкая борода таам, а тут целый алтын…
И вот, ведут в проце дурную, вдруг мне совсем молодая сестричка дала это устройство и сказала побрить всё, что вокруг да около. Показала на себе вот таак, не снимая, правда тряпки, халат и всё что без резинок, почти ниже колен.
Вот, думаю, и спросить не у кого, как и где. Переживал, а она совсем молодая не более сорока или чуть побольше, пришла и говорит, – покажи, а то мне потом влетит. Я должна это делать. А я что неживая?! Такую процедуру на таком молодом. Показал. Она удивилась и обрадовалась, – во, какой ты хороший. Молодец. А потом потрогала, погладила против шерсти ладонями. Двумя сразу.
– Воот, здесь ещё немного, безопасной, погладь и сама погладила, показала, как нужно. Вдруг быстро отошла, пришли ещё другие в этот процедурный массажобритвенный кабинет – па…хермахерскую.
… Утро туманное, утро седое. Капли по крыше трезвонят – капли терпения и ни капли страха.
– В предбаннике, велели снять пижаму, и, и посадили на лавку, в предбаннике. Сижу, голый, как без ума и ветрил, зашла сестра, но другая, операционная, дала пилюлю. Глотай, неет, держи под языком, и не дала закусить, ой, нет, – водички, лучше бы водочки, а не водички. Пилюля смягчила предстоящий вход без выхода, на эшафот, и думаю вот бы ишшо, на плечо пивка и сто граммчиков,– дуудки. Показала сестричка. Пошёл, открыла дверь – вход – врата Рая. Руки, ладонями прикрыл пока ещё при мне мои драгоценные ядрышки, а то, думаю, счас отхватят и попискивай потом, женским голосом, как говорят, бывает, случается, когда хирург ошибается. Чик, чик и ты уже…не маль чиик.
Защёл. Свет, в глаза бьёт как сварка, и слева ведёт под уздцы мужичёк, в белом халате, меня ведёт, показывает мой катафалк. Глянул страсть жуткая. Рядом с моим прокрустовым ложем лежит мужик и, и…….и матерится. Значит ещё живой. И, я повеселел.
– Не всё запомнил, но мат и те словеса, которые мы в Р.У. уже усвоили лучше, чем технологию металлов и построение корпуса корабля на уроках спецтехнологии. А таам. А здесь…мужик матерится. Лежит себе, хоть не дерётся, и то хорошо. Аа,– привязан, пристёгнут. Крепче, чем на жигулях ремнями безопасности. А здесь это для хирургов, чтоб избежать рукопашную…
– Я вас, мать перемать! Боольнооо.
– Где больно? Вопршает потрошитель, коллега моей спасительницы, узурпатора. Садюги. А он, этот подопытный кролик, на этом столе для фаршировки, голый, но поперёк его раскрытого живота, на том месте, где должен быть живот, лоскуты буквой Т, а концы этого конверта зацеплены скобами как крючки на удочках для рыбки – сома. Открыли врата ада, доступ до его желудочнокишечной полости, как они тогда перекликались, специалисты потрошения.
– Я, только, тогда, такое, виидел, в Бурятской А.С.С.Р., у друга, однокурсника, художественного училища, много, нет, всего три годика, после того первого потрошения.
У Булата Энкеева, были в гостях, готовили барана, ну, шашлыки.
По Бурятски… Живьём.
Кишки такие же зелёные. Но там баран, шашлыки, водка, а не пилюля, единственная для успокоения, хорошо хоть не упокоения…
Так вот – он, баран хоть и орал, бее, бекал, и то жалко. А туут…
Сам почти баран, хоть и не для шашлыков, и, и, шампуров не видно, – тряпкой прикрытые, на изготовке лежат.
… И, вот пошёл речитатив в операционной.
Они его ругают.
– Пил,– вот и язва,
– А сам перебирает потроха. Кишки, но не у барана, у мужика, как матросы верёвки, когда учатся морские узлы вязать, на парусниках. Спрашивает, где больно?
– А он орёт.
– Везде больно! – Отвяжи…
– Я, говорит, мать твою, покажу, тебе где больно.
Потом всё – таки тишина и спокойная речь, вот выдержка, наверно на фронте был в горячих точках. Он так тихо говорит этому кролику.
– Вот ты пьёшь, потому тебя и наркоз не берёт. Как же ты успел ещё и перед операцией выжрать?! Теперь ищи ветра в поле, где твоя язва. Тебе язву души надо лечить… Наркоз не берёт!! Где, умудрился и сегодня смазать. Вот теперь терпи….
И я запел, правда, про себя. …А то не ровен час, переведут в другое отделение, где психи…
– Мы идём, нас ведут, нам не хочется, по бульварам, проспектам, садааам.
– В ремесле любили такое петь…
А сам, а сам прямиком иду, не вырываюсь, за локоток ведёт теперь сестра, чтоб не перепутал место посадки, не улёгся рядом с тем уже распотрошённым.
– Потом тихо молча, да…к окнам, – большие, светлые, там дождь и второй этаж.
Поздно.
… А нам теперь, не спрятаться, не смыться, такая тогда была ремесленская, почти оперетта.
…… Лёг.
– А куда бежать. Да ещё голяком, без трусов и ботинок. Второй этаж. А тот, дурень орёт, что ему больно, бооольно гады, словеса такие, весёлые, тоже почти оперетта. А они вперёд и с песней. Ищут, допытываются, где больнее, там никак не найдут видимо язву, да не её, а, сквозное отверстие, как нас учили, когда мы путали слова,– дырка и отверстие. На корабле… А преподаватель, уже простым народным языком, словеса почти говорил, где находится и у кого, дырка в кармане и второй вариант, повеселее. Он пальцем, на себе это демонстрировал, как наглядное пособие, всегда при себе…
– Ну что Серёжа, не прошибло потом? …– Потоом, вспомнишь. Прошибёт. У тебя сейчас не до того…Я и сам уже устал. Взопрел. Это тебе не лунная ночь в Италии, и серенады…
– Вспоминать и то щекотно…
– Нет, ты хоть не так, – голый натурализм, – помягче, помяягче, и мне больно, – желудок заворочался, как будто меня потрошат. Хоть тема и случай достойный внимания, да и тебе такую приёмную устроили, – санаторий в натуре. Я бы через окно смылся, удрал бы без всякого колёсного транспорта…
– А я ничего, видимо пилюля как сто граммов и кружка пива, в день получки. Коленки не дрожали. А они, она вела меня за локоток, как в загс водят приговорённых к семейной жизни. А может и правда боялась, что убегу, глядя на эту экзекуцию. Такое зрелище, конвеер, бригадный подряд, хотя бы тряпкой загородились.
– Надо же, живьём…, почти серпом, по деде, и, не по бороде.
– Ладно, самому хотя бы пивка, для амортизации, устал, зато ты не задремал, вторая часть будет веселее, с медведем связано.
– Ну, ещё такого не хватало в операционной. Да нет, это уже было в коридорах больничных. Там красиво…смешно даже было, но смеялись не все. Так что пора вторую серию выдавать на гора, будешь слушать? Молчание – знак согласия,
– Тогда слушай.
…Я лежу и думаю о хорошем, но какое хорошее в голову влезет лёжа не в гамаке на пляжике, но чувствую, йодом запахло, не водкой.
– Мазанула она, как баба яга метлой и видимо этот, йод, его мать, хуже самогонки без закуски, – загорелось, запекло,…– отвлекающий фактор, понял, чтоб больно потом не было…теперь, думаю хоть оторви живьём хрен, который даже слаще редьки, – не прочувствуешь, и не почувствуешь,– ни хрена у тебя, да и редьки уже неет….
– А она, знай подхваливает, что я молодец. Видимо и ей не понравилась песня ещё не усопшего мученика, говорит, что мы быстренько это сделаем. Хорошо хоть не обрадовала другим, вполне возможным исходом такого серьёзного дела…– уделаем.
– Даа, ещё новость. Увезли того пьяного с потрохами, наверное, в процедурную, говорили, заспиртуют, тогда дорежут до конца, хоть орать не будет. И нам здесь спокойнее, тишина – Рай, а не анатомический зал, как у Леонардо, в пятнадцатом веке.