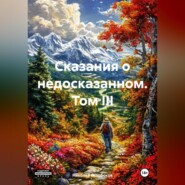По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сказания о недосказанном. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не скажешь, картошка, не выбросишь в окошко.
Так вот.
Были они тогда красивые, мягонькие, тёплые, натуральные, согревали душу и тело, в те времена.
Не то, что капрон, которому место только врагам народа, и тебе изобретателю поролона – тоже такое нужно ложе, вот тебе и прокрустово ложе, а для простого люда, негоже.
Что касается меня, так эти самые трусы, и, конечно рейтузы, столько принесли на блюдечке, с голубой каёмочкой, сюрпризов, заслуженных острых, слёзных, смешных минут и, конечно, ощущений.
Сына, мне жена подарила, когда уже было не до детей. Возраст не смущал, но ровесники, завистники, конечно, говорили… – поздноваато. И дразнили как в том анекдоте, на кого похож сынок, а жена ему, да ты его не знаешь.
Когда будешь растить воспитывать. Беспокоились, будто они должны будут потом растить моего сыночка, а сами зубы скалили, такая молодая жена, а у тебя уже наверное того…
У меня было всё в порядке, и насчёт того и этого. Но их, друзей, якобы друзей, волновало. Такая молодая жена с вьющими волосами и ямочки на щёчках и спортсменка, так она тогда выглядела. А коллега, художник, приехал аж из столицы Крыма. После третей порции моего винца «Изабелла» почти трёхлетней выдержки и танталовых мук моих, личных, по принципу понюхай и положь, нюхай, нюхай, но не трошь. Пальчик пососи и больше не проси…
Коллега, предельного возраста, тоже в шутку, чтобы не обидеть меня сказал, спел:
– Ну ладно, ты был в длительной командировке, помнишь, в Хмельницке, международное мероприятие, закупка продукции России на длительные сроки, и твою керамику запросили Японцы и Англичане. Понравилась, такое у них не бывает. Необычно. Здорово. Молодец. Дело сделал. Успех. Ты теперь международник. Даже японец удивился, взял осторожно образец, повертел, в руках, понюхал, не верил, что это после огня тысяча градусов а не акварель го – хуа. Китайская живопись типа батика, и он, японец, спросил, что это Го – Хуа?
– А ты… ему,
– Ну, даёшь,
– Япония, Китай, все у них учились мастерству и секретам фарфора.
– Нет, это…Гаа, Ни – Хуаа…
– Переводчик рассмеялся, он был русский, и сказал японцу, что это русский фольклор, импровизация, а сейчас это шутка художника. Не переводится. На ваш язык…Непереводимо…
– Посмеялись.
Но японец ещё раз подходил к нашему стенду и всё спрашивал как это. И что…
Но потом всё равно заключили договор на поставку работ в Японию.
– А я тоже был в отъезде, продолжал ныть мой, якобы доброжелатель, откуда? Ещё и какой красавец! Но мы всё это воспринимали через чудо и подарок, Свыше, Сын!
Дочь уже школу заканчивала, а вот сыночек… ах, как я его хотел и ждал. Дождался.
Трусы… Рейтузы. Опять эта генная инженерия. А может он сам, этот Гена, инженер, сотворил, перепутал. Записал, таам, на своих Генных шпаргалках, давным – давно, мой стряс, как говорил мой тесть, а теперь вот проявляется.
В далёком моём детстве не по собственному желанию, получилось моржевание,– игра такая. Были, конечно, и правила, но, ни слова об этой процедуре не упоминалось. Первое, пели каждый или трио, песню,
– *Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага.* После исполнения почти гимна – клятвы, вооружённые копьями, ну это камышинка и на одном конце этого копья метёлка от камыша, а другой конец этого оружия остро заточенная камышинка.
И вот.
После ритуала клятвы нужно было по этим густым зарослям пруда искать и найти немцев, по нарошке, конечно, и, вперёд. По льду, среди этой почти тайги, как нам казалось, искали притаившихся врагов. Вся прелесть и задача этой войны была найти, настигнуть и кричать, сдавайся фашистская морда. Ну а потом дружеские пожатия с *немцами*или кулаки, перед носом победителей и побеждённых. Весь секрет и тайна была заложена стратегами этого действа. Перед скрытым входом в палатку врагов,…– ловушка.
И, тот следопыт,– недотёпа, который терял бдительность и попадал в ловушку, – замаскированную прорубь, и, пошла рукопашная, уже без правил,…конечно, кулаки и ноющие, совсем не мужественных партизан, со слезами, потом слова совсем не из клятвы,
– А мы так не договаааривались…
Ума хватало ненадолго, снова купели и ой мама, я больше не буду…
Влетевший в маленькую прорубь, хоть ума хватало, не делать ловушки на глубине,… пожалел волк кобылу, и, конечно, счастливый партизан или двое, были в грязи и замёрзли как цуцыки,– так мама говорила.
Пришёл домой, отогрели, горячим, оказался, ремешок, чтоб больше не прыгал в воду, не зная броду, а тем более, ледяную. Так вот дома меня привели в чувство, отскребли глиняный шликер, командировали на русскую печь, а, что бы срамоту прикрыть, тогда ещё не разводили в теплицах сознания – нудистов, одели мамины безразмерные рей ту зы, а резинку затянули на самой горлянке моей, что бы не свалились ненароком. Я брыкался, пытался их спустить, хотя бы чуть пониже – ниже, пониже моего горла, но мама показывала и не только визуально, а практически, ремешок.
… И вот, пока я не заснул от тепла русской печки, много маялся, и, казалось, задыхался. Тогда эта антипатия и влезла мне в мою светлую головку. Почему светлую? Да волосы у меня были белые – белые. Вот она где истина засела, антипатия, нетерпение к рейтузам.
Сынок, чуть подрос и стал понимать, что такое трусы, рейтузы. Ему, когда напялили на его две половинки – вопил, капризничал, пытался их стащить и куда-нибудь выбросить или даже прятал в печку, когда, правда она не горела, в надежде, что они сгорят. И тут мы взялись за голову, припомнить какими трусами мы могли его нервную систему привести в такую дурацкую антипатию к такой, не совсем конечно, парадной одежонке. Ему ещё и не показывали шорты, шаровары или скажем галифе. Особенно чёрные, хотя я помню, эти рейтузы мамы были бирюзовые, но вызывали такую бурную антипатию или даже, ненависть, и долго же, я, потом приходил в своё нормальное состояние.
Потоом, когда, годами позже, читал о генной инженерии, слышал, что детям передаются по наследству те радости или горести, которые переживал его родитель.
Вот она, причина.
И тут только вспомнил о своих трусах, которые мама шила в те далекие, даже ещё и не юные годики. Теперь о них по большому секрету, может и всему свету, поведаю.
Правда, то были скорее трусы, но родственники этих самых, маминых.
Война закончилась, а проблемы, как результат войны, были.
Мануфактура. Это то, что было только у спекулянтов, но очень дорого. А спекулянты, их сейчас дразнят, ну кличка такая, бизнесмен, перекупщик или просто посредники, а по нашему – спекулянты, воры, обманщики.
И вот. Жили мы тогда на Арабатской стрелке, деревня называлась Счастливцево. Или как мы её звали-величали Счастливка. Правда я и сейчас, спустя много десятилетий, не могу сообразить, за что так посмеялись над жителями этой песочной косы, которую вечно, днём и ночью пронизывали, как самум в пустыне – ветры. Рассказывали поселенцы этой почти земли, как часто веяли, дули, – дул, Федул, который губы надул, ветрами, с моря, и песок засыпал глаза, а ещё хуже, с сиваша, тухлым, был ветерок, совсем не освежал душу и тело, но говорили целебным сероводородом. Какой там водород, может сероводород, когда тухлый ветер дует в рот. Счастья, что – то не порхало в наших домиках. Не мозолило наши умы назойливым приставанием – Яаа! Счастье, бери меня. Греби обеими руками…
Четвёртый, пятый класс – мы почти регулярно появлялись в школе, и учились, тоже, почти исправно, но вот лето. Ах, лето! Море рядом, виноградники сколько душе угодно. И мы старались. Нам море по колено и мелкие, тёплые песчаные пляжи принимали нас без всякой такой мзды, да и, за что…
А бахча – арбузы и виноград, шептали, нашёптывали, сердечно, так сердечно – своими гроздями и бликами, – ну заходи, ну обними, ну поцелуй и покуштуй, проглоти … хоть одну гроночку глюкозы, очень уж манил, душевно так.
Но самое глупое, мы это точно знали и чувствовали, было то, что умники колхозного правления, почемуу, решили бахчу и виноградник со скороспелкой, сорт такой был, решили устроить у самых окошек правления, где сидели уважаемые, как мы их тогда величали, конторские крысы. Потому их недолюбливали. Взрослые говорили, что у них …был перископ. И точно! Мы только приближались своей командой поближе к бахче и скороспелке, они уже орали во всю глотку наши фамилии. Хотя по всем правилам послевоенного времени, играли в войнушку и знали, что такое разведка и окружение вражеской позиции скрытно и с трёх сторон.
А во всём, как оказалось позже, были виноваты, трусы-рейтузы. Ух, её, эту маа ми нуу – фактуурру, – мануфактуру…
Мама наша купила себе, эту драгоценность на платье и, конечно пошла к мадистке – швее. Так их тогда величали. Платье ей сварганили на загляденье, ещё остались обрезки, кусочки, клинышками такими. С этих- то объедков – огрызков от маминого платья – устроила нам подарки.
Платье, праздник, тогда в те времена шили – перешивали – перелицовывали старьё, на новьё и снова носили, – ноовое… Она, наша мама, ещё была моложавая, в этом платьице совсем помолодевшая, – красное с белыми горошинами нарядная, хоть на свадьбу.
Иди. Красуйся. Почти невеста. А нам? Горе. Горе неописуемое – чаще описюемое…красовались своими горошинами по всей деревне, смеялись все, кроме нас. Нам же было не до смеха. Кошке игрушки, а мышкам слёзки. Куда не сунемся, знают, кто, куда и зачем. Мы превратились в светящийся красный семафор в наших драгоценных трусиках.
Стоял такой в карьере, где добывали песок – ракушку и этот прародитель светофора с красным глазом орал – стоять! Хода нет и паровоз, вперёд не лети. И, никакой остановки! Он, паровоз с тремя вагончиками стоял и ждал, когда это чудо дореволюционной эпохи поднимет свою рогулю с лепёшкой на конце и погаснет красный глаз как у бешеного быка-производителя. А нам то, с братом каково с красными светофорами на самой попе и не чужой. А маме нашей всегда докладывали все соседи и вся улица. Маршруты заносились в память книги штрафов и предупреждений.
И вот наступил тот самый день, когда наши трусы получили по полной программе ремня и более того. Да трусам то что, а место, которое под трусами щекотало, жгло и болело.
По всей этой Счастливке, не знаю, а мой дедушка и мама всегда, перед тем как сделать очередную внушительную беседу с помощью ремешка, лёгким движением рук, трусы спускали, причём молниеносно голову между ног, коленками держали за ушами прямо по шее. Чтоб не удрал.
Когда в университете, мы изучали предмет анатомия, назывался, я это место точно определил, таак, на всякий случай, воспоминания о временах обучения, совсем не по системе великого педагога Макаренко! Так вот это место, где помещались колени узурпатора, ой, нет, опечатка, любимого воспитателя – родителя, находились между…грудиноключнососцевидными мышцами и, и выше около ушей – портняжными мускулами. А, а трусы, вниз и слова песни были такие – « срака зарастёт, а мануфактуру жалко»…