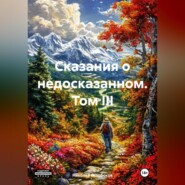По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сказания о недосказанном. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом, щекотало так, что и море не в милость. Водица то солёная, а пруд был, да не один с пресной водой, были целых два, но там жабы – лягушки -шкрекуды, так мы их дразнили – квакали, такая тина была и ряска, зелёные, прямо изумрудная зелень, красивая, как у Айвазовского.
Прудики эти разносили аромат тухлых яиц и болота, хотя и раки водились, но в эту водичку нам, после моря ух, как не хотелось отмачивать свои потревоженные, не совсем большие и не окрепшие, ещё ягодичные мышцы. А ещё раньше, в художественном училище я узнал, как величали художники и медики, наши многострадальные сиделки – большие и малые ягодичные мышцы, и не только им, досталось в этот день по полной, непедагогической программе, и уже без системы научной.
Наш мучитель, Филя, садовод и сторож, дал рекорд в беге по пересечённой местности с полным боевым снаряжением.
А мы, конечно, были и без снаряжения и без средств защиты, если не считать наши драгоценные намёки на трусы, а скорее это был парафраз на тему – фиговые листочки, модные когда-то, да и сейчас, на шикарные, костюмы для Крыма и южных широт – костюмы Адама и его любимой девственницы – Евы, – искала, и нашла же, чем соблазнять…– яяаблочками…
Сейчас это в моде, а тогда звучало во всё услышание всей деревни – страмотааа, не больше и не меньше. Плавки не шили и не продавали, а наша мама слепила что – то типа полосочки тряпочек, хоть и цветастых и краснобелых, – белые горошины на ярко красных полянах, как флажки при охоте на волков, сейчас это позорище называют стринги. И вот наши самодельные прародители этого намёка на трусы, которые чуть-чуть прикрывали нашу наготу и, и может быть, будущие инструменты детородных органов, как потом мы узнали, много лет спустя.
В нашей деревушке фиговых листочков не было, не росло, но в таком намёке, на одежду, нас бы совсем заклевали и не только драгоценный наш Филя…
Носились по всей деревне в поисках, как говорят в народе, ищет на свою жо..,ой, попу, приключений.
Первая попытка полакомиться арбузами закончилась полным поражением.
Демьян был из семьи, которую и семьёй – то не называли – они даже на маслозаводик наш, деревенский как – то попытались днём ясным, попробовать, продегустировать, маслица или хотя бы сметанки, но зашухарились и ушли, походкой, почти парадной, как спринтеры на стометровке.
И вот мы с братом, по пластунски, пошли – поползли мимо окошек правления. На самой границе, где уже блестели как лысина у безволосого, как его дразнили, босой на голову – главбух. Он вылез через окно наполовину. Эта махина ростом с Гулливера, начала кричать, а они, арбузики, уже блестели, да так аппетитнооо. Попа знала, чувствовала своим сердечком, когда оно убегало в пятки – нужно драпать, как мы тогда говорили. Убегать то некуда. Дереза впереди, ещё и колючки – кирцы, их имя. Слева уже конторские бегут. Что делать? Рванули сквозь дебри не Уссурийского края – сросшейся дерезы. Мы дали такого стрекача!
Тогда дереза содрала не только наши намёки на одежду, а и казалось, кожу наших не откормленных деликатесами, дистрофичных тел … оставили на, и в, колючках, этих живодёров, которая называлась де ре ззаа!
Ух, зараззза!
Удрать то мы сообразили, но нас уже засекли, внесут теперь в красную книгу – список штрафников, ой мама… Я больше не буду…
Пришли к морю, там никого, в воду сунулись – печёт. Ой, мамочки…
А он – стервец, Филя, почему его так дразнили или звали-величали нам не понять, только уже давно с ним вели холодную войну. Но периодически она была и горячей, очень горячей. Выходила не только боком, а и другими путями и радостью наших многострадальных тел…
Однажды и мы достали и добрались к его мощным, большим, очень большим ягодичным мышцам…
А, если судить рядить, так как это делают хорошие соседи, когда моют косточки своим рядом живущим, так это было.
– Маш, а Маш, видела как наш колхозный Филипп, разожрался, вон зад отъел, как у курдючной овцы, видела…
Да и мы, пацаны были бы рады,– не гонялся бы за нами, через всю деревню, как заведённый.
Парикмахерская была в карьере, так называли центр нашей цивилизации. Магазин, клуб и этот центр красоты. Как попали в нужное место в нужный час и минуты, когда Филя вошёл в этот салон. А было просто чудо, которое так и не смогли объяснить, ни тогда и много лет спустя. Тааакой случай, такое счастье для нас. Не сумели тогда голосом Левитана громко и гласно ему процитировать классиков: Отмщенье сатана, отмщенье!!! И были, ну совсем рядом, рядышком и он, конечно, не видел… Чудесаа! Играли мы с ёжиком, которому не так повезло как нам. Его тормошили, он сопел, фыркал, пыхтел, а смешно и весело было. И, вдруг сообразили – « Хорошая мысля приходит опосля». А наша, пришла и засветилась во время. В своё, самое нужное время.
Он, Филя, как большое начальство, садовод, охрана и ещё что-то, как общественная нагрузка, тогда не было, понятия по совместительству, не существовало, тянул лямку, как он сам говорил. Вот куда эта лямка довела.
Он ездил по делам, почти на мерседесе – это такая одноколка, лошадь одна, а дышла два, две оглобли, их привязывают к хомуту и вперёд! Начальник на транспорте. Ну, почти иномарка, тогда, правда, и не знали такую, просто легковая. А чтоб ему, начальству, было хорошо и мягко, там, где сидение из кожи должно было быть, как на иномарке, просто пустой ящик для технических нужд, туда можно было спрятать чего – ни будь съестного. Зерно, или кусочек макухи, а если ничего нет, то солома и сиди как в карете на свадьбе. Вот это нам и понравилось. Гнёздышко для нашего ёжика. И вот мы устроили, – уложили его туда, а, что бы он не рванул во все лопатки до дому до хаты, Демьян стоял рядом, благо кусты были далеко, от парадной двери парикмахерской. Там нельзя, потому, что лошадь, она хоть и боевая, с фронта её списали, ранена была, не могла соблюдать правила гигиены и справлять нужду там, где положено.
Привязал вожжи к дереву, там удобнее нам партизанить. Я сидел на другом дереве и смотрел в парикмахерскую и когда он, Филя, вставал с кресла после овеянного « шипром, « духи такие были, для, после бритья особам большого значения, красавица Лена улыбкой проводила к двери.
Сигнал поняли. Ёжик фыркнул и залез под солому, свернулся в комочек-шарик, где должен сесть наш друг, товарищ и брат – ненавистный Филя…
Паровозик, кукушка, который иногда подавал сигнал задремавшему стрелочнику у семафора, тот паровозик без тендора и мозгов так сигналил, что вся Счастливка пробуждалась от дремоты, стрелочник просыпался, собаки испуганно выли, от первых домиков карьера и, и, до последнего – сто пятьдесят третьего, который терялся в песках где-то в самом конце, несчастной, разбуженной Счастливки. Всё – таки паровоз хоть и маленький, но горластый.
Так Филя, бедный Филя, он дал такой сигнал, громче и выразительнее чем это чудо техники, рождения тридцатых годов.
Лето. Одни штанишки, это вам не современный бронежилет…это и вся боевая форма стрелков охотников, за грабителями социалистической собственности, в такую то, жару. А он, красавец, был тяжеловес и, как курдючная овца и верблюд, на всякий случай, откладывают про запас. Вдруг бескормица, засуха. Так и наш Филя, пять баранов равновесие не дадут, на весах грешников, когда выписывают путёвку в Рай. Благие дела, когда взвешивают таам, на Небесах, а он ещё и с подпрыгом сел, подножка, снизу была, вот тебе и физика и, сила тяготения-притяжения, и, почти, Юрьев день. Или как бабы говорят,… жрать надо меньше.
Хоть он иногда и марафонил за нами, да ещё с ружьём, но вес держался за него как раздутый клещ зажравшийся, на шее нашего Бобика. А наш, а наш друг, товарищ и брат ёжился на полном скаку кавалерийской лошади, хоть и демобилизованной, которую напугали смертельно, неопознанные объекты.
… А как?
Вот таак, это было.
Он отвязал свою тягловую, одну лошадиную силу, отвязал, вожжи у него в руках и, когда вскочил от чего – неопознанного и нерадостного, так жестоко, щекотавшего его душу и тело – тысячью жалами гремучей змеюки.
Лошадь с перепугу, дёрнула и он невольно и неуправляемо, в автоматическом режиме, снова плюхнулся, так уверенно, что душа его скоропостижно распрощалась с телом. И не вставая со своего расплющенного, как камбала, неопознанного нелетающего объекта, дёрнул за вожжи, тоже в автоматическом режиме. Лошадка, заржала, запела, завыла нечеловеческим голосом. Уздечка больно рванула её многострадальные зубы и губы, стала как будто перед китайской стеной.
Против лома нет приёма. Узда – не звезда, закрыл глаза и где звезда? А тут, бедная стоит и плачет, коровьими слезами умывается. За какие, такие только грехи, ей опять мобилизация и передовая линия фронта, которая была, она точно знала, далеко, а война для лошадки продолжается. Ой, мама, только и смогла она вымолвить, смогла выговорить человеческим голосом. За что? Так! – И гого, мать его… Ржала она со слезами в душе и наяву…
Филя уже не слышал.
Он перечитал, пропел, на крещендо, сказали бы музыканты, как таблицу умножения все матюки, которые он, его отец, дед и прадед, – предки все, до седьмого колена, знали, применил. Да, ещё пара ребят, соседи, пользовались, употребляли в дружеской беседе, крутые словеса, этого, славословия, которые уже успели отсидеть, – словарь, интеллигентов в законе, у них тогда в этой академии небо виделось только в крупную клеточку, они и небо туда же пристроили, к такой матери, при случае.
… Весь свой запас речитатив, он исчерпал за каких – то тридцать секунд, потом долго и нудно шёл рядом со своей начальственной легковушкой, до самого дома, до самой до хаты. И, когда его драгоценный страж пёс барбос рявкнул в три глотки как гром, в солнечную погоду, он подумал, решил, постановил, что это приснилось, а у него ещё и коленки, спереди и иззаду, стали вдруг мокрыми.
Вспотел.
Прошептал.
Сам себе.
Оправдал, таккоее деело.
Благо в летнем душе полный бак тёплой пресной, живительной водицы.
… И вот, снова корова, как по писаному высшими силами, натворил-получай, по самую макушку, а точнее от макушки, до самых, до самых, до окраин своего бренного многострадального тела и особенно его нижней мягкой, пока ещё совсем недавно, не тронутой ни кнутом, ни ремнём и другими предметами, которыми даже не пользовались инквизиторы в столь отдалённые времена.
И так, сказал бедняк, выпить хочется, а денег нет. Нам – то деньги и не нужны, а виноград, арбузы, мааанят, маанят. Мы рассказываем друг другу как их лучше и когда употреблять, на тощий или на полный желудок. Вспомнили, и как ходили в соседнюю деревню за арбузами, правда ночью, после «ручейка» игра такая, и вечерних песен наших красавиц. Это было уже близко к полуночи. Сходили.
Принесли и тут же их у прудика порешили, но, когда пошли ещё, то там придурастый сторож пальнул в нашу сторону из своего ржавого ружьишка, а оно хоть и старое, хоть и ржавое, как нам хотелось бы, таки, пальнуло и, одному нашему угодило что-то почти, как Филе, чуть – чуть пониже пояса. Потом светили спичками, заглядывали ему не в самое красивое место, в самый центр, вернее разделительную нейтральную полосу между двух его половинок.
Эта процедура, конечно, не радовала никого, а он, пострадавший, вопил, жаловался, ищите, говорит, должна быть! Дробинка или соль. Но, кроме маленького пупырышка, ничего наши ветврачи – самозванцы, не обнаружили, ему так и поставили диагноз, – синячёк и никаких гвоздей, соли и дроби тоже не могли узреть. Тем более, не было никаких для диагностики средств и условий,– спички, и то, раз два и, расчёт окончен. Видимо, правда, ружьё его было как самопал, убойная сила для нас недосягаемая. Не рассчитал маленько стрелок – охотник за вражескими самолётами. Было в те времена это красивое словосочетание и специальность.
После такой тихой, почти бесполезной ноченьки решили – постановили, и просто без постановления, решения профсоюзного собрания, как тогда было в моде.
Идти.
Вот так, шли да шли и вдруг вспомнили старые следы, почти на снегу, так был песочек, кое – где травка и там, мать их за ногу, кирцы, это такая гадость! В Крыму только я встречал, которая растёт где угодно и никакой воды.
Дождя ей, этой травке совсем не нужно, листочки мелкие, зато колючки как ёжик, только похуже, у него, хоть животик мягонький и там пушок, а эта, почти живая травка, со всех сторон иголки с резким расширением, даже наши пятки, покрытые панцирем, как у парнокопытных, да и однокопытных, прошивала эта вредина, как милицейский ёжик на автодороге, ею покрывают, когда ловят деловых людей. Видимо гениальный конструктор скопировал эту игрушку с нашего крымского кирца – колючки. Говорят же даже по радио, что над совершенным оружием трудились лучшие инженерные силы страны. Да ещё при Сталине. Попробуй поставить знак «качество» а он, шину не пробьёт, так тебе башку пробьют. Тогда и делали хорошо. Хоть и дорогой ценой платили за плохое качество…
И вот он, наш драгоценный участок нейтральной полосы между правлением и бахчёй. Там дефилировали объездчики. На лошадях, правда в одиночном варианте, им было проще, чем нам. Гоняют кнутами, а заодно и нам перепадало, когда были за нейтральной полосой. Правда, это редко, но было, было дело и не под Полтавой, здесь дома, в Счастливке.