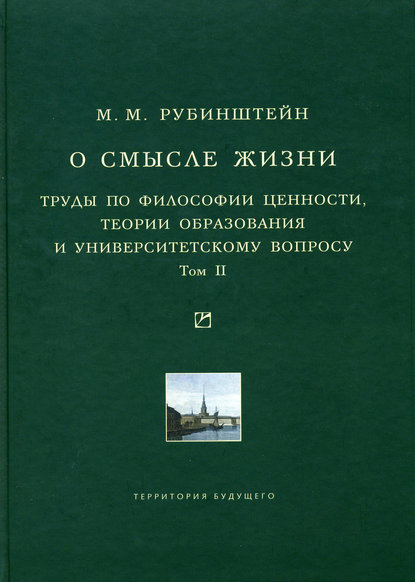По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3. Принцип воспитывающего обучения. В интересах той же последовательности и целесообразности развития педагогической теории и практики особенно важно напомнить старую гербартовскую мысль, к сожалению, плохо усвоенную или забытую теперь, хотя она полна глубокой правды, – правду ее давно показал живым делом не кто иной, как Песталоцци. Эта мысль заключается в убеждении, что не может быть обучения без воспитания, если мы возьмем последнее понятие в несколько более широком смысле. В самом деле, как только воспитание перестает быть простым вскармливанием – а это происходит в наших условиях очень скоро, – воспитатель стоит обыкновенно под градом детских вопросов, требующих неуклонного ответа, а в этих ответах на вопросы что? как? и почему? он, в сущности, в нормальных условиях должен сообщать детям целый ряд доступных им сведений, то есть не только заботиться о характере их поступков, но и отвечать на их умственные запросы, иными словами, он в сущности уже вступает на путь обучения: тут не по книжке и не вполне систематически дается и должен даваться ряд элементарных сведений. Что такой элемент обучения не только не является насильственным, но прямо необходим, это лучше всего видно из того, в какую мертвую, безрадостную, а подчас и озлобляющую форму одевается воспитание, когда оно сводится только на нравственные наставления и поправки, когда взрослый становится в роль только ценителя и судьи детских поступков. Как мы увидим дальше, только игнорированием этого элемента или непониманием его и можно объяснить себе, что культурное человечество видит естественное начало обучения в начальной школе и не дает соответствующей организации дошкольного воспитания. И тем менее допустимо и возможно обучение без воспитания. Педагог впадает в тяжкое по своим последствиям заблуждение, когда он утверждает, что его задача обучать, а не воспитывать. Это немыслимо уже хотя бы потому, что дети проводят половину своей жизни в школе, в обществе своих учителей. Школьная атмосфера, поведение учителя, его отношение к учащимся, его достоинства и слабости, его внешность, голос, манера и т. д. – все это имеет определенное воспитательное значение для детей. Ведь дети, как и люди вообще, особенно ревниво и внимательно приглядываются к тем, кто выступает в роли учителей и наставников, и, прислушиваясь, например, к пояснению педагога, данному по поводу прочитанного отрывка и описываемых в нем лиц и поступков, они, естественно, нападают часто на сопоставление с собой и с окружающими, т. е. с педагогами. Первостепенное воспитательное значение обучения обнаруживается с полной непреложностью, если мы припомним ставшее в наше время азбучной истиной положение, что ничто так не воспитывает, как труд и совместный труд. Таким образом, не действовать определенным воспитательным образом педагог не может – вся разница лишь в том, что, отклоняя от себя такую роль, он идет впотьмах и, не сознавая всего значения своего поведения, легко может принести значительный вред; наоборот, в противоположном случае он может использовать все положительные стороны ясно сознаваемого положения. Особенно важно отметить, что каждый метод, служащий целям обучения, сообщения определенных знаний, неизбежно действует определенным образом и как воспитательное средство. Поэтому и в теории, и в практике ко всем мерам и путям, к которым прибегает педагогика, необходимо применять двойной критерий, спрашивая не только, дают ли они полезные результаты в обучении, но и, где можно, каково их воспитательное значение. Может случиться, что полезное в одной сфере окажется вредным в другой, и тогда возникает серьезное сомнение в его целесообразности. Истинные пути педагогики должны удовлетворять и того, и другого, иначе они ложны. Этот принцип должен быть принят во внимание при оценке экспериментальных данных, рискующих всегда переоценить одну сторону, именно обучение; им отмечается важность воспитания ума, помимо приобретения определенных знаний; он указывает нам на необходимость господства общеобразовательных элементов даже в профессиональной школе и т. д. Обучение и воспитание нельзя отрывать друг от друга, и средства педагогики должны оправдать себя по возможности с той и другой точек зрения – такой вывод диктуется интересами воспитания цельной личности.
Таковы те общие выводы, к каким мы приходим в вопросе о целях и принципах педагогики. Они далеки от полноты и строгой систематичности, в особенности принципы педагогики. Такая цель дать систему целей и принципов педагогики достижима только в специальном исследовании. В задачи же этого очерка, по существу, входит стремление наметить только общие контуры педагогических проблем.
УНИВЕРСИТЕТ И ВОСПИТАНИЕ[288 - Впервые: М. М. Рубинштейн.// Университет и воспитание. (Речь, произнесенная на заседании студ. науч.-пед. кружка при Моск. ун-те 14 октября 1914 г.) // Вестник воспитания. 1914. № 9. С. 69 – 94. Не переиздавалось.(Прим. ред.)]
Речь, произнесенная на заседании студенческого научно-педагогического кружка при Московском университете 14 октября 1914 г.
I
Мы вступаем в третий год существования научно-педагогического кружка при совершенно необычайных условиях. Напряженная атмосфера политических отношений, раскаленная все возраставшими вооружениями, разразилась наконец настоящим мировым пожаром, не оставившим не захваченным ни одного культурного уголка. Как ни тяжелы эти события сами по себе, судьба, как оказалось, приготовила нашему культурному сознанию еще новое тяжкое испытание: Германия, воспитавшая на своих философах, поэтах и ученых целые поколения интеллигенции и на нашей родине, взявшая на себя роль одной из первых носительниц культуры, первая бросила факел в горючий материал современных международных отношений и повела войну жестокими средствами самого разнузданного свойства, а среди научных, философских и литературных сил ее нашлись люди с мировой известностью, взявшие на себя защиту возмутительных деяний, ненужного разрушения, насилий, нарушений права и т. д. Таким образом, эта война принесла нам тяжкое духовное испытание, обрушив на нас всею его тяжестью сомнение в ценности культуры, и многие из нас восприняли эти события как настоящую духовную катастрофу. Война захватила нас всех, и вся жизнь, все силы устремились на борьбу с хищническими позывами наших врагов. Все думы были сосредоточены на одном, и вначале казалось прямо невозможным думать о чем-либо ином. Но думать и о текущих заботах жизни было необходимо. Родина наша теперь, больше чем когда-либо, нуждается в том, чтобы жизнь наша не слишком вышла из нормальной колеи, это нужно прежде всего в тех же интересах совершающейся борьбы.
Одним из актов такого обращения к нормальной жизни является и наше сегодняшнее заседание. Приступая к нашим занятиям, будем помнить, что мы вершим очень важную, насущную работу и с точки зрения современных текущих событий. Как раз мы в области педагогики можем взяться за нашу повседневную работу с удвоенной силой и энергией. Новое положение общества, новые люди и новая или обновленная жизнь создаются в значительной части новой педагогикой. Когда разразилась война и мысль наша была поставлена перед ожиданием катастрофических событий, гибели сотен тысяч наиболее жизнеспособных людей, мы видели только катастрофу, и душа была заполнена гнетущей думой о неизбежно надвигающейся тьме. Первое тягостное впечатление способно было заставить опустить беспомощно руки именно педагога: именно у него должна была, как молния, пронестись мысль, что все речи о педагогике и большие ожидания рушились разом, как жалкий карточный домик, при первом малейшем натиске реальной действительности. Не Германия ли шла впереди других наций в развитии школы, не там ли расцвели новейшие педагогические теории? Все мы с завистью смотрели на Германию, уделявшую так много забот системе образования, построившую образцовые школьные здания, залитые светом школьные дворцы. Все мы с громадным вниманием следили за ростом педагогической психологии и ее немецкими представителями, из среды которых вышли главы современной экспериментальной педагогики, как В. Штерн, Э. Мейман и т. д. Германия была настоящей носительницей культуры и воспитательницей человечества, проповедовавшей идеи права, долга, нравственности и других культурных ценностей. Специально в области педагогики в последнее время там горячо обсуждался вопрос о культуре цельной личности, о школьной свободе, самодеятельности, расцветали многие идеи гуманного Песталоцци, горевшего пламенной любовью к человеку как человеку, ими насыщены труды Наторпа, Кершенштейнера, Ферстера и др. До настоящего времени все с гордостью повторяли пресловутое изречение фельдмаршала Мольтке, что именно прусский народный учитель создал мощь и культуру Германии.
И вот вдруг из стен светлой солнечной германской школы, культивировавшей, казалось, гуманность и уважение к человеческой личности, созидавшей культуру, вместо ожидавшегося рыцаря в современных культурных духовных доспехах, вооруженного не только наукой, техникой, культурой, но и человечностью, справедливостью, показался дикий варвар, одетый в звериную шкуру, и понес в мир не только борьбу с вооруженным противником, но и пожары, уничтожение и насилие мирным жителям. Запылали дома, послышались стоны истязуемых и изнасилованных, обнажился грубый, неприкрашенный инстинкт полового чувства, грабежа и уничтожения, и мы долго не могли прийти в себя от ужаса, что школа, образцовая немецкая школа дала только тонкий налет культурности, прикрывавший нетронутую варварскую сердцевину; пришла минута испытания и тонкий слой культурных румян, нанесенных школой, свалился в миг, и нашим взорам предстала тяжкая картина неприкрашенного действительного лица. И малодушные люди пришли в отчаяние, решив, что школа не смогла пойти вглубь и упорная работа учителя пропала даром. Эти события явили нам как бы наглядно, что мы педагогические утописты и питались педагогическими иллюзиями.
Верно ли это? Верно ли, что педагог оказался бессильным и мы отданы бесповоротно во власть педагогического фатализма? Я глубоко убежден, что это далеко не так, что отчаянию здесь не может быть места. Более того, теперь, когда прошла первая минута душевного смятения и открылась возможность более вдумчиво вглядеться в лицо действительности, я беру на себя смелость утверждать, что современные события не только не уничтожили нашу веру в созидательную мощь педагогической работы, они не только не превратили в легенду утверждение, что народный учитель создал великую страну, но они, как ничто другое, подтверждают и укрепляют веру в силу и знание педагогики. Достаточно просто вдуматься в тот факт, что пред нами борются не просто представители экономических и политических противоположностей, но в борьбу вступили и различные по их духовному смыслу системы воспитания. Будущее решит вопрос о политических итогах войны, но духовные итоги намечаются уже с достаточной ясностью: беспросветное впечатление первого периода начинает сменяться признаками положительного свойства, во мраке первоначального пессимизма начинают пробиваться первые лучи оптимизма, и не надо быть большим пророком, чтобы предсказать, что духовные итоги этой войны клонятся все больше и больше в положительную сторону.
В самом деле. Почему наши взоры сковал вандализм германца и попытка его духовного оправдания? Разве Франция, Бельгия и Англия не вступили вместе с нами в борьбу за право и справедливость? Пусть одна сторона жизни народов, именно – международные отношения еще не вышли за пределы естественных отношений, и грубая сила пытается занять место права; пусть массовая жизнь движется медленно вперед, чересчур медленно для нашего сознания, так, что это часто повергает нас в отчаяние, пусть так, но не будем же настолько слепы, чтобы не видеть, что педагогика не бессильна, что она не создала всего, чего мы хотели, может быть, даже не создала в массе очень многого, но кое-что она дала, и это «кое-что» является глубоко симпатичным и ценным, это «кое-что» подымает дух наш и дает нам право верить в лучшее будущее. Чтобы понять это, вспомните, мм., гг., какой взрыв негодования пронесся по всему миру, когда грубый кулак коснулся неповинной Бельгии, какая буря возмущения пронеслась по всему миру. Значит, воспитание велось не даром: естественная грубая сила знает только победу или поражение; сила там заменяет собой право, бессилие и слабость приходят в роковую близость с виной и бесправием. Но Европа на наших глазах пережила и переживает настоящую очистительную бурю. Наиболее характерным положительным признаком этого роста нравственного сознания и правосознания даже в международных отношениях является тот факт, что даже сам грубый правонарушитель, официальная Германия, увидела себя вынужденной прибегнуть к некоторому оправданию или извинению своих поступков. И педагогика может с гордостью смотреть на эти акты ссылок со стороны воюющих сторон на защиту культуры, свободы, права и справедливости. Они, эти ссылки, мм., гг., являются глубоким утешением для нас в наших современных печальных переживаниях, потому что все это симптомы намечающегося выхода из «естественного» состояния и в международных отношениях, а это есть в очень большой степени плод педагогики.
И что Германия, страна философов и поэтов, какой ее считали раньше, выступила в преступной роли разрушительницы, это также не только не опровергает нашей веры в мощь воспитания и школы, а еще более укрепляет ее. Мнимая парадоксальность этого утверждения исчезает бесследно, если мы попытаемся отдать себе отчет в том, каким характером была насыщена германская педагогическая практика последних десятилетий. Достаточно вспомнить, что на педагогических съездах, по существу далеких от речей о войне и войске, и в среде немецких педагогов было далеко не редкость услышать заявление, что «наша армия есть наше первое воспитательное учреждение, через которое проходит вся наша молодежь», что офицер и унтер-офицер являются призванными воспитателями немецкого народа[289 - Такое мнение было высказано при общем одобрении, например, на дрезденском съезде по эстетическому воспитанию.].
Эта односторонняя солдатская культура и школа, мм., гг., сказались с особенной силой в том учреждении, которое нас интересует в данном случае больше всего, – в немецких университетах. По самой их постановке, по характеру академической жизни немецкие университеты были и остаются не только образовательными, но и в очень большой степени воспитательными учреждениями. Эта черта в их жизни подчеркивается и в теории, например, Циглером, Мюнхом, Кершенштейнером и др. Мои наблюдения над академической жизнью германских университетов и беседы с представителями профессуры убедительно говорили о том, что в них велась сознательная культура односторонне солдатского духа, что немецкое студенчество, отбывающее воинскую повинность, не покидая университета, и образующее кадры запасного офицерства, являлось во многих отношениях прямым сколком с касты немецких офицеров. Как известно, допущение в ряды офицерства студентов обусловливается у немцев тем, что за ними ведется строгий надзор с военной точки зрения корпорациями, и студент, отказавшийся, например, хотя бы принципиально драться на дуэли или просто потому, что он не желает принимать участия в этой игре в оружие на мензурах (дуэль на рапирах), этим самым навсегда закрывает для себя доступ к вступлению в среду запасных офицеров. Мне вспоминается одно чрезвычайно многолюдное студенческое собрание, на котором выступил с речью профессор местного университета, известный хирург; он начал свою речь словами: «Мм., гг.! Я солдат». Эти слова вызвали такую бурю неописуемого восторга, что почтенный хирург долгое время не мог произнести ни одного слова дальше, потому что зал дрожал от криков восхищения и топота ног (немецкий студенческий способ выражения одобрения) и аплодисментов. И в этой картинке было много характерного: естественно, высоко ценя армию, как призванную защитницу народа, немцы тем не менее и в своих ученых верхах впадали, под влиянием губительной милитаристической атмосферы, в грубую односторонность, ставя солдата над человеком. Вспоминается мне также то упоение, с каким студенты и доктора (т. е. окончившие университет) произносили в ответ на случайный вопрос ту же фразу: «Я – немецкий солдат!» или «Немецкий солдат должен» делать то-то или то-то; слова эти были напоены такой неописуемой гордостью и упоением, что дальнейшие разговоры были излишними. И всегда в этом сквозила гипертрофия одностороннего военного духа и соответственно этому некоторое захирение общечеловеческого духа. В то время как в народе культивировалась в примитивной форме мысль «Германия выше всего», в университете на этой почве шла сознательная культура этой идеи, тем более что на немецкой милитаристической почве своеобразно окрепла старая гегелевская мысль, что государство есть сама конкретизированная, воплощенная в действительность нравственность. Непостижимая для нас попытка некоторых немецких ученых оправдать нарушение прав Бельгии и других проступков Германии, может быть, отчасти и объясняется тем, что государство заняло в их сознании место самой нравственности как таковой, так что все, что требовалось этим государством, тем самым становилось для них оправданным. Только этим и можно отчасти объяснить себе грубо наивную фразу, сказанную официальным лицом Германии в ответ на упрек в нарушении нейтралитета Бельгии: «Поймите, что этого требовали жизненные интересы Германии!» Университет и шел широко навстречу этой милитаризованной нравственности. И вот в итоге сознательно вскормленного перевеса культуры солдата над культурой человека явилась сокрушительная картина немецкого вандализма…
Но университеты в Германии задавали и задают тон всей немецкой системе образования. Таким образом, мы вправе сказать, что и современную солдатскую Германию, воинствующий народ создал все тот же учитель или, по крайней мере, все та же педагогика, потому что педагог по профессии и германский офицер шли рука об руку, и последний ясно сознавал свои односторонние воспитательские задачи. Вот почему я думаю, мм., гг., что перед нами плоды не только капиталистической или политической системы, но еще определенной педагогической культуры. Если же педагогика способна повести в сотрудничестве с другими важными факторами так далеко в отрицательную сторону, когда она идет по одностороннему, в данном случае милитаристическому пути, то у нас нет повода сомневаться, что та же педагогика, то же воспитание, но насыщенное иным духом, духом живой полной человеческой личности, приведет, при наличности некоторых иных условий, к таким же крупным, но уже положительным результатам. В победе над Германией будет сокрушен не только политический враг, но и страшно опасный враг, – это милитаристический, узконациональный, эгоистический идеал воспитания. Тем дороже противникам германизма позаботиться о том, чтобы возможно ярче засиял общечеловеческий идеал свободы, справедливости, подлинной человечности.
В этой идейной борьбе и воспитании человека университету должно быть отведено очень крупное место. Крупным завоеванием всегда является не только внешний захват, но главное – прочное усвоение внутренних благ, отвоеванных у врага. Одним из таких многих благ должно явиться сознание, что университет в высшей степени важное не только образовательное, но и воспитательное учреждение, и наша задача – использовать эту силу в сторону расцвета общечеловеческих идеалов, хотя их конкретное осуществление одевается в национальную или особо государственную форму.
II
Как ни стара мысль, связывавшая университет с задачами воспитания, а многим и многим она представляется несколько странной. Наша мысль плохо мирится с возможностью воспитывать взрослых людей, какими являются учащиеся высших учебных заведений. Кроме того, подходя к университету с требованиями воспитательного воздействия на молодежь, приходится с глубокой горечью вспоминать, что наши университеты во многих отношениях поставлены в крайне неблагоприятные педагогические условия и что отчасти потому и призванные носители науки, как воспитательные образцы, нередко оказываются далеко не на высоте положения. И тем не менее это не может помешать нам попытаться выяснить воспитательные функции университета в общих чертах и именно в той их части, которая находится в руках самого студенчества. Эту сторону я и хотел бы выяснить в нашей сегодняшней беседе. Неблагоприятные условия в существовании наших университетов только увеличивают нужду в понимании воспитательных задач университета. Мы знаем, что чем гуще тьма, тем дороже речи о свете.
Понятие ученого, оторванного от жизни и ее практических интересов, сочеталось в нашем сознании с представлением об анекдотически рассеянном и житейски поразительно наивном профессоре. Но если мы покинем почву обыденного ложного представления, то понятие ученого или просто образованного человека должно вывести нас за пределы узкого понимания ученого, в котором мы видим только теоретика. Его назначение, безусловно, не только сообщать знания, способные удовлетворить теоретические запросы, но оно заключается и в высоких воспитательских задачах. Философы немецкого идеализма в принципе идут по глубоко жизненной колее, отмечая такое высокое назначение ученого. Он не может быть чужд этим задачам уже по одному тому, что его назначение, по проникновенным словам Фихте, неотделимо от назначения человека вообще. Ему, говорит Фихте, по существу поручается высший надзор за прогрессом человечества, а этот прогресс в основном ядре своем должен быть глубоко нравственного характера, и таким образом ученый должен быть настоящим воспитателем человечества и человечности. Только при таком понимании назначения ученого, только при насыщении его понятия требованиями педагогического воздействия становится понятным, почему все мы считаем справедливым предъявлять к ученому такие крупные, чрезвычайно повышенные требования. Почему нас так глубоко оскорбляет чиновник в профессоре или циничный, безнравственный человек в ученом или неисполнение им своего гражданского долга. Мы готовы простить многие грехи простому человеку, но ученому мы ставим их не только в упрек, но готовы даже признать их за двойную вину. Если бы с понятием ученого не было неразрывно связано высокое нравственное воспитательно-человеческое назначение, мы без труда бы мирились с образом личности, сочетавшей в себе великого ученого и низкого человека. На самом же деле сознание наше не мирится с этим диссонансом, потому что оно резко противоречит самому понятию ученого. Позвольте мне, мм., гг., напомнить для примера всем вам хорошо известную печальную эпопею из прошлого представителей науки и философии: вы помните, конечно, что знаменитый Бэкон связал свое имя с очень тяжелыми предосудительными деяниями; его упрекали во многом, включительно до взяточничества, в грубом утилитаризме, и это вызвало и продолжает вызывать многочисленные попытки или опровергнуть обвинения, или как-нибудь понять их, потому что представление об ученом никак не укладывается в нашем сознании без противоречия рядом с представлением о бесчестном человеке. Как ни просто было бы сказать, что он был великим ученым, но нечестным человеком, мы не успокаиваемся и, главное – не можем успокоиться на этой мысли. В идеале ученые должны быть непременно лучшими людьми, и чем больше отрицательных примеров дает нам действительность, тем ярче выявляется тесная связь ученого с человеком, учености с воспитательным воздействием. Тут, может быть, будет кстати вспомнить, что слова «учить» и «учитель» содержат в себе смысл не только передачи знаний, но и известного воспитания. И к университету в этом смысле предъявляются большие, я бы сказал: значительно повышенные, требования.
Понятие ученого неразрывно связано с другим понятием, с понятием науки, и в нем также нетрудно отметить элементы воспитания. Как бы ни расходились задачи отдельных наук, в конечном итоге общее их назначение сводится к тому, чтобы приоткрыть завесу над существом мира и помочь прямо или косвенно уяснению смысла мира и жизни. Когда отдельному ученому-специалисту удается пробиться от частных отдельных вопросов к цельной теории в своей специальной области, наиболее даровитые и пытливые натуры видят в этом пункте не последний этап, а твердую отправную точку для построения философского миросозерцания. Этот факт подал, например, Паульсену, повод говорить, что собственно философов не должно быть, а должны быть только философствующие специалисты. Когда наука говорит о том, что такое мир, какова его внутренняя структура и т. д., она косвенно дает толчок к думе над смыслом мира и жизни и помощь к разрешению этого вопроса в его действительной жизненной форме. В этом смысле холодная, безучастная к жизни и ее запросам наука, живущая принципом «знание ради знания», существует только, пока ученый трудится над разрешением загадок в своей области и потому справедливо ревниво оберегает свой ученый кабинет от вторжения деморализующих житейских интересов, но когда научная работа отлилась в определенную форму, двери ученого кабинета распахиваются настежь, и чем значительнее теория, тем более широким потоком идет ее влияние на духовную жизнь человека. Как далекая звезда, над всеми научными стремлениями ярко сияет идеал дать не только удовлетворение теоретических запросов человеческого духа, но и оплодотворить весь человеческий дух в его целом – не только ум, но и волю и чувство, прямо или косвенно уча жить истинно и ценно.
В самом процессе разработки научных вопросов, которому служит по существу университет, кроются черты, указывающие на связь между университетом и воспитанием. Наука не есть продукт изолированного духа, она рождается в обществе и живет коллективным духом. Научное знание усваивается только в процессе активного, деятельного претворения, только таким путем оно перестает быть мертвым капиталом и вырастает в большую живую, животворную силу. Там, где нет этого деятельного усвоения и живого взаимодействия ученых работников, знание хиреет. Может быть, многие печальные факты в жизни наших университетов объясняются именно отсутствием условий такого живого воспитательного воздействия и взаимодействия. Может быть, отчасти в этом кроется секрет некоторого захирения лекционного преподавания, потому что выросшая индивидуальная личность ищет теперь большого простора и более живой колеи для удовлетворения своих запросов. И к университету в полной мере применим старый принцип воспитывающего обучения: всякое обучение воспитывает.
Истинная наука воспитывает и своим методом: она вносит упорядоченность в наше понимание мира и тем самым делает его нам много ближе; она гонит перерывы, пробелы, которые, как зияющие раны в мире, в природе бросаются в глаза сознанию наивного человека и не дают ему покоя, будь в нем духовные запросы, т. е. стремление понять мир как целое без мучительных перерывов и скачков; так рождается наука, пролагающая везде мостики, заполняющая пробелы; она отыскивает связи, роднит, сближает отдельные части мира и дает уже одним этим богатое формальное воспитание нашему духу. Изгоняя хаос, она неуклонно наводит мысль на порядок; отыскивая истину как будто только теоретическую, она заставляет думать о большем, именно о правде в широком смысле, и желать, и искать ее. Жизнь науки не раз проходила по очень тернистому пути глубоких сомнений, но, как феникс, сгорая, она снова рождалась и рождается из собственного пепла, потому что ее родили пропитанные жизненным теплом запросы цельной человеческой личности, а не один только холодный теоретический рассудок. Разочарование в ней – только отход для нового разбега…
Таким образом университет, чтобы быть истинным питомником ее, должен ясно осознать вытекающие из понятий ученого и науки воспитательные элементы. «Университет, – говорит Гармс, – должен воспитать ум в его исканиях, волю в ее устойчивости, чувство в благородстве и чистоте», и в этой короткой формуле много настоящей жизненной правды, хотя о частностях этого определения можно спорить. Университет должен быть нравственным сообществом ученых, и как таковой он должен воспитывать в лучшем смысле этого слова, иначе он находится в большей или меньшей мере в ненормальном или даже болезненном состоянии. С этой печальной действительностью мы познакомились в нашей собственной жизни, и тем больше чувствуется нужда именно у нас вспомнить об университете не только как о высшем образовательном, но и как о высшем воспитательном учреждении. Я не сомневаюсь, что истинное оздоровление университета совершится на той колее, на которой будет среди иных удовлетворено и это требование.
Университет – огромный воспитательный фактор не только внутри себя, но и во вне. Подойдите к нему с этой точки зрения, и вам станут понятны во многих других отношениях резкие и несправедливые нападки Л. Н. Толстого на университет и современную науку. Вы припоминаете, конечно, как «великий учитель земли русской» в ряде статей бичевал современный университет, современных ученых и современную науку за то, что они учат тому, что далеко, по его мнению, от настоящих жизненных интересов, и почти совершенно молчат о том, в чем бьется настоящий пульс жизни: о Боге, о душе, о смысле жизни и т. д., т. е., иными словами, что они не воспитывают или очень плохо воспитывают, а по мнению Л. Н., всякое знание и истинная наука должна воспитывать. Пусть многое в этих упреках узко, односторонне; часто, может быть, Л. Н. Толстой винил науку за недостойных ее представителей или наоборот, но в одном он безусловно прав: истинная наука должна воспитывать, университет должен вдохнуть настоящий человеческий характер в человека, помочь ему отлиться в полную многогранную личность. Л. Н. Толстой взглянул на университет и ученых на фоне этих требований и неизбежно пришел к горьким упрекам по их адресу. Нельзя всего, всю науку и научные интересы впрягать в ярмо жизни и житейских интересов, наука живет автономией, но нельзя переходить и в другую крайность, нельзя игнорировать жизнь, целиком отрываться от нее: и чрезмерное прикрепление к земле, и полный отрыв от нее оплачиваются дорогой ценой утраты живой струи.
Тем же ожиданием от науки воздействия в сторону нравственного усовершенствования окрашено и отношение к ней наивных людей. Масса готова простить многие тяжкие проступки простому «неученому» человеку, но она же ставит их в двойную вину образованному; эта оценка мотивируется прямым образом тем, что простой человек согрешил, но с него нечего особенно и требовать, потому что его сознание окутано тьмой неведения и неразвитости, а образованный «ученый» человек должен знать и понимать, он коснулся священной области науки и потому должен быть нравственно просветленным. Наивное сознание принимает за нечто само собой понятное, что образование не только лучше вооружает для борьбы за существование, но и улучшает нравственно; наивное сознание берет слово «учить» во всей его жизненной полноте. Жизнь учит нас, что эти ожидания далеко не всегда оправдываются, и дурная натура, вооруженная знаниями, часто становится от этого еще опаснее; все это так, но тогда, очевидно, в постановке нашего образования кроются какие-то роковые ошибки, потому что истинная наука должна возвышать нашу душу; это не прямая служба ее, а ее прямое следствие, и это нисколько не уничтожает ее самодовлеющей ценности.
Мм., гг.! Все вы, конечно, хорошо помните свои переживания, связанные со вступлением в академическую полосу вашей жизни. Подавляющее большинство подходит к ее заветным вратам с глубоким душевным волнением и невысказанными, неясными, но большими ожиданиями. Все мы в эту пору переживали подымающие минуты не только потому, что студенческая жизнь манила нас своей своеобразностью, непринужденностью, т. наз. «академической свободой». Ведь многие из вас прекрасно отдавали себе отчет, уезжая из дома, что это момент отрыва от семьи, что вы вернетесь в нее не прежним сочленом, что в чужом городе вас часто ждет горькая забота о насущном куске хлеба, жестокая борьба за существование, изнурительная беготня по урокам из одного конца города в другой и т. д. И тем не менее ваши ожидания новой жизни полны иного настроения, являющегося плодом не только молодости и избытка свежих, еще неистраченных сил. Нет, тут слышится иное. Тут чувствуется настроение момента приближения к источнику, где должна быть не только истина, но и правда, правда-истина и правда-справедливость; чувствуется приближение к сфере свободы исканий, к окончательному завершению и выявлению своего я, своей личности… Пусть в этих ожиданиях, как показывает потом действительность, часто оказывается много наивного, пусть академическая жизнь заставит потом во многом разочароваться, но в этой частичной наивности живет ядро жизненной правды; вся беда в том, что истинная наука как совершенное знание – только идеал, только задача, но зато устремление к ней, искреннее и глубокое, должно взращивать у души крылья и помогать насаждению в душе молодого человека стремлений к идеальному царству. Наша университетская действительность темна, но уясним себе, что университет по существу связан с воспитанием, что часть этого воспитания в нашей власти, и тогда мы скажем, что действительность темна, но не беспросветна. Первый этап на этом пути, это – мысль, что университет не только учит, но и воспитывает, что он должен говорить не только холодному рассудку, но и всему духу человека. Вот эти-то справедливые ожидания и волнуют юную душу на пороге вступления в академическую жизнь. Можно только добавить к этому, что это святое волнение.
В этих юных ожиданиях заложена еще одна глубокая правда. Академическая жизнь по существу, где ее не сковывают цепи насильного ограничения, открывает широкий простор жизни в большом живом общении с ищущими интеллигентными людьми, а такое сообщество может и должно стать огромным образовательным фактором. Глубоко ложна и вредна мысль, что учат только книги; это не верно уже потому, что книга не дает достаточного простора вопросам, она в своих ответах очерчивает определенный круг и не допускает ни малейшего выхода за пределы этого круга. Только живая личность оставляет пытливому, способному идти вперед духу человека безграничный простор исканий и нахождений; дух оплодотворяется не только книгой, а главным образом живым духом же; ведь и в книге сила воздействия создана им же; это его голос слышится за неподвижными черными значками на белом поле страниц книги. Сообщество и общение есть живой источник и воспитания, и просвещения. Глубоко, искренно жаль, что часто это общение или не налаживается, или принимает дурной характер в среде нашей университетской молодежи. Великий мудрец античного мира Платон, как и греки вообще, вдохновенно рисует нам картину такого духовного оплодотворения в своем «Пире», да и в других своих произведениях он поучает нас, что истина рождается в живом общении живых людей. И как это ни тяжело, а приходится признаться, что нам так недостает этой благотворной античной черты. Книга не должна мешать живому духовному общению, а наоборот, подготовлять его. Этого требуют интересы образования, но этим же открывается широкий простор воспитанию и взаимовоспитанию.
Эта потребность в широком воспитательном воздействии в университете ощущается тем более остро, что средняя школа пока все еще идет по пути чистого надзора и не выполняет своей задачи быть отчасти и воспитательным учреждением. На этой почве там создаются и пышно расцветают цветы ученического бюрократического отношения к делу, бравирование пренебрежительным отношением к работе, взгляд на преподавателей в общем как на враждебную сторону и т. д. Все эти недостатки, конечно, объясняются рядом очень сложных причин, но для нас важно установить в данный момент, что дурные среднешкольные нравы и привычки переселяются и в университет и подымают здесь все тот же вопрос о том, как бороться с внутренним казенным духом, как создать настоящую, здоровую, хорошую атмосферу, которая действовала бы глубоко воспитательным образом на всех нас, которая исключала бы в корне возможность проявления всех этих недостатков.
Наши сетования на среднюю школу оказываются во многих отношениях справедливыми потому, что на ее долю выпадает важная задача – подготовить молодежь к университетской жизни, и одной из наиболее существенных частных целей является требование подготовить к умению достойным образом пользоваться этой свободой. Университетская свобода, в особенности в наших отечественных условиях, где до сих пор ей ставились часто почти непреодолимые преграды вплоть до ее уничтожения, как и всякая свобода, предполагает очень многое и прежде всего не только уважение своей собственной личности, ее известную зрелость, но и необходимо вытекающее отсюда бережное отношение и уважение к чужой личности. Средняя школа, к сожалению, часто или вовсе ничего не сделала в этом отношении, или внесла даже сюда известную долю разложения. На почве естественного протеста против удушливых сторон жизни нашей средней школы и жизни общей мы нередко утрачиваем способность проводить резкую грань между свободой и произволом, и первое подменивается нередко вторым. Свобода, эта великая ценность, требует большой выдержки, самосознания и дисциплинированности. Если средняя школа не дает их нам в достаточной степени, то тем более важно позаботиться о них в университете, который теперь часто засоряется казенным отношением к делу со всех сторон, среднешкольными подвохами на экзаменах и в работах, погоней за свидетельством, удовлетворением мнимым отметочным знанием и т. д. Как ни несовершенна постановка дела в наших университетах, про которые справедливо говорят, что в них нет времени учиться, так как оно целиком уходит на экзамены, как ни много в них темных сторон, о которых я не могу здесь высказаться подробно, но все-таки и в данный момент нам нельзя складывать орудия, и в данный момент мы можем кое-что сделать в деле оздоровления университетской жизни, поскольку она зависит от нас, а ее зависимость от нас, учащих, и от вас, учащихся, оказывается чрезвычайно большой. Первый шаг на этом пути – это сознание, что университет и воспитание не только не чужды друг другу, но что на университете лежат важные воспитательные задачи.
III
Мм., гг.! Как вы видите из всего содержания моей сегодняшней речи, я глубоко убежден, что на университете лежат важные воспитательный задачи. Отчасти в том, что мною было сказано об ученом и науке, я уже сделал попытку наметить, какими путями может идти это воспитательное воздействие: оно лежит в самом существе всякого научного преподавания. Где оно стоит не на должной высоте и идет безотчетно воспитательным путем, там, конечно, не только нет положительных результатов в области воспитания, но и делаются большие шаги в другую сторону. Как раз в области воспитания можно больше, чем где бы то ни было, сказать, что кто не идет вперед, тот идет назад. Этим определяется и то, в чем мы к преподавателям университета должны предъявить очень большие требования, которым современная академическая действительность не удовлетворяет в желательной степени. Об этих требованиях к ученому и о его назначении я упомянул уже раньше, да и об этом больном вопросе нашей действительности писали и говорили так много, что будет правильнее не тревожить еще незаживших ран, тем более что сущность вопроса является уже достаточно выясненной, и многое притом в этой сфере определяется условиями, лежащими за пределами университета и наших сил и власти. Я хотел бы обратить ваше внимание главным образом на то, что мы можем сделать сами теперь в переживаемую нами пору. Вот почему я оставлю речь о преподавателях в стороне. Это тем более естественно, что на такой путь повелительно указывает самая сущность университетского воспитания.
В самом деле. Речи об университете и воспитании кажутся несколько парадоксальными, потому что большинство связывает с воспитанием активное и прямое воздействие на воспитанника, и тогда, конечно, оказывается, что высшее учебное заведение, в котором обучаются взрослые интеллигентные люди, уже не может взять на себя такую задачу, она является уже запоздалой малоуместной попыткой. Очевидно, университетское воспитание несовместимо с гетерономными путями, с воспитанием путем прямых открытых предписаний со стороны воспитателя, тем более что этот путь нуждается в очень значительных поправках и по отношению к более юной молодежи. Путь университетского воспитания может быть только один: это – косвенное и главное – автономное воспитание или самовоспитание и взаимовоспитание.
Теперь, я думаю, становится понятным, какое огромное значение приобретают университетские студенческие кружки. Именно они должны помочь внести большое оздоровление в атмосферу университетской жизни. Будя научную самодеятельность и самостоятельность, открывая простор для совместных свободных, не связанных программой духовных исканий, студенческие научные кружки вместе с тем являются прекрасной ареной для воспитательного воздействия лучших идейных сил на остальную студенческую массу. Именно тут на этой почве легче всего создать то здоровое университетское студенческое общественное мнение, в атмосфере которого будут немыслимы бюрократическое отношение к делу, рутина, погоня за дипломами, отбывание «университетской повинности» и т. д., или во всяком случае на этой почве у многих и многих легко пробудятся усыпленные рутиной духовные запросы и идеальные мотивы. Молодые люди оставляют гимназическую скамью с большими ожиданиями полноты и интереса академической жизни, молодые силы ищут исхода, но встречаются с печальными фактами нашей университетской жизни, которые заслоняют перед их взором то, что есть хорошего в ней, и, не находя идей, сплоченности и среды, в которой можно было бы дать выход этим силам в идейном направлении, не видя настоящего студенчества как коллектива идейного порядка, молодой студент идет сплошь и рядом за случайным сотоварищем по линии наименьшего сопротивления и погружается в пучину или чиновничьего отношения к университету, или же разгула и пустоты. Роль старших товарищей могла бы оказаться здесь чрезвычайно плодотворной. От юных студентов часто приходится слышать жалобы на одиночество и разрозненность студенчества, которые и толкают их на путь легкой рассеянной жизни. И вот тут-то и могли бы помочь старшие студенты, но роль их окажется плодотворной только тогда, когда они сами не явят картины удручающего разброда, а будут объединены на идейной духовной и трудовой почве; тогда они смогут ввести юного сочлена в настоящую хорошую студенческую семью, насыщая его содержанием своей коллективной духовной жизни. То, что не под силу одному, легко и незаметно осуществляется обществом. Воспитательное использование студенческих кружков есть первая насущная задача, за которую должно взяться и само студенчество, и вершители судеб нашей университетской жизни. На этом пути и начинается настоящее оздоровление университетской жизни.
Мм., гг.! Я знаю, что, может быть, у многих из вас пробегает в эту минуту мысль, что в мехи старые не вливают вина нового, что казенные основы наших университетов не дают достаточно благоприятной почвы для воспитания и самовоспитания и что в удушливой атмосфере принуждения и связанности трудно рассчитывать на то, чтобы молодой росток здорового духа дал хopошие плоды. Конечно, все мы знаем, что при современных условиях жизни наших университетов на наши плечи ложится очень тяжелое бремя, но ведь это совсем не оправдание того, чтобы отчаяться в дорогом нам деле и отказаться нести это тяжелое бремя. И вот, вдумываясь в то понятие казенщины, которым теперь часто отделываются от необходимости взять на себя долю ответственности за неудачное течение нашей университетской жизни, мы должны прийти к выводу, вносящему одну существенную поправку, особенно важную для выяснения интересующего нас здесь вопроса.
Защищать бюрократизм и казенщину немыслимо; скажем больше, по адресу профессуры, руководителей нашего просвещения можно сказать много горьких истин. Но ведь это не все. Университет не есть только внешне составленное учреждение. Сущность его заключается не только в обстановке, библиотеках, вспомогательных средствах и т. д. Самое же главное – надо понять, что одна профессура университета никогда не образует. То, что мы называем университетом, есть в основном его ядре определенное общество, и как таковое университет есть в его сердцевине явление духовного порядка, именно он заключается в союзе или живом взаимодействии двух групп сил, учащих и учащихся. Как ни велико значение преподавательского состава, но было бы крупной ошибкой, повторяемой в наше время на каждом шагу, забывать о значении духа, царящего в самом студенчестве. Трудно даже сказать, которой из этих сил следует придавать большее значение. Я не хотел бы вовлечь вас в бесплодный спор о том, что играет большую решающую роль в университетской жизни: состав и характер преподавателей или настроение и направление студенчества. Но, может быть, именно тут будет больше всего кстати вспомнить о том, о чем в других случаях напоминают в первую очередь, а тут, где такое напоминание действительно важно, о нем молчат. Я хочу напомнить вам, что студент – это уже взрослый человек, это не ученик младших классов гимназии, а перед нами личность, прошедшая уже крупную полосу жизни, до известной степени определившаяся и вооруженная собственной самостоятельной волей. Пусть характер его нуждается еще во многих отношениях в поддержке и культуре, но все-таки это уже взрослый человек, претендующий реально на определенную роль в жизни. Ко всему этому присоединяется еще одно важное обстоятельство, именно: в университете пред нами не одно такое лицо и даже не маленькая группа, а сравнительно большая масса, представляющая как коллектив большую реальную силу. Считаясь с наличностью этой силы и с точки зрения студента, уже нельзя с обычной легкостью говорить о казенщине, заедающей жизнь университета, потому что эта жизнь создается не одной только корпорацией преподавателей, в которой, как и во всякой корпорации, встречаются и большие, ценные люди, и люди иного порядка, но в созидании этой жизни, ее характера непосредственно участвует и студенчество. Те, кто забывает об этом, низводят студенчество на роль материала, выковываемого молотом профессуры на наковальне министерства народного просвещения. Такое представление безусловно ошибочно и по отношению к средней школе, где кроме преподавателей выступает еще и ученическая масса, насыщаемая думами, направлением и характером нашей семейной и общественной жизни и являющаяся большой реальной силой. Тем менее подходит роль воска, из которого вылепляют что угодно нашему студенчеству. Оно также несет на себе долю вины за недостатки нашей университетской жизни вместе со всем нашим обществом. Оно одно, конечно, бессильно устранить нелады нашей жизни, но дух, царящий в нем, является большой решающей силой. Сила эта, может быть, настолько велика, что с ней приходится не только считаться, но она способна оказать очень большое воспитательное влияние и на преподавателя. Казенное изложение, невысокий уровень материала, отбывание профессорской повинности и т. д. мыслимы только при невысоком общем уровне аудитории. В среде студенчества, насыщенного здоровыми серьезно-научными интересами, взрастившего в себе дух, исключающий бюрократизм в самой среде большинства студенчества, в атмосфере серьезных запросов такое изложение и отношение к делу стали бы невыносимым мучением для самого преподавателя. Для него оставался бы только один выход: это уйти и дать место живым силам. И вместе с тем те живые силы, которые теперь хиреют, наталкиваясь на рутину и предубеждение в самом студенчестве, часто по традиции и некритически покрывающего все эпитетом казенщины, найдут благоприятную почву для своего расцвета. Повторяем, всего эта сила не сделает, но она может многое: она, эта студенческая масса, взявшись за свое духовное оздоровление, культуру и самодисциплинирование, на месте которых средняя школа оставила зияющий пробел, с ее неисчерпаемым неистраченным теплом сможет расплавить значительную часть той массы льда, в которую теперь часто замораживаются проявления нашей университетской жизни. Для этого университету и студенчеству важно сознать свои своеобразные пути воспитания, т. е. пути самовоспитания. И вот тут в первую очередь выдвигается роль студенческих кружков для совместной работы. Это – те средства, которые, как показывает в частности жизнь студенческого научно-педагогического кружка, находятся вполне в нашей власти. Значит, все дело в том, чтобы мы поняли их роль, чтобы мы поняли, что университет и воспитание близки друг другу, что на университете, профессуре и студенчестве лежат важные воспитательные задачи. И тут сама молодежь с ее отзывчивостью и чуткостью должна пойти вперед и проломить лед, часто мешающий нашему успешному движению вперед.
Те же кружки способны внести еще одну положительную черту в нашу жизнь. Они могут оказать большую помощь сближению факультетов и расширению кругозора специалиста, в чем ощущается также значительная нужда. Кроме того, они открывают возможность более тесного соприкосновения с профессорами.
Конечно, это не единственный путь университетского воспитания. Можно еще напомнить об особенно ценном пути, по которому идет студенчество в Западной Европе. Это – студенческие организации, отдающие безвозмездно свой труд на известное время народному просвещению; здесь молодые люди деятельно приучаются к бескорыстному служению общему благу. Будем надеяться, что когда-нибудь и у нас будет оставлено недоверчивое отношение к студенчеству, и оно получит возможность такого деятельного воспитания бескорыстия, связи с народом и гражданственности. Но при современных условиях это, конечно, неосуществимая задача.
Но важно сознать, что университет и воспитание не огонь и вода, что они близки друг другу, и тогда пути деятельного осуществления университетского воспитания откроются сами собой. На эту связь я и хотел обратить ваше внимание в нашей сегодняшней беседе.
ПАСЫНКИ УНИВЕРСИТЕТА
(О подготовке молодых ученых)[290 - Впервые: М. М. Рубинштейн. Пасынки университета (О подготовке молодых ученых) // Вестник воспитания. 1915. № 9. С. 161 – 173. Не переиздавалось. (Прим. ред.)]
Война несет с собой столько ужасов, уничтожения и разрушения, что как-то с трудом укладывается в голову мысль, что в этих событиях может крыться большой смысл. Кант когда-то говорил вслед за Юмом, что две воюющие нации представляются ему здоровыми служащими посудного и фарфорового магазина, вступившими в своем магазине в ожесточенную драку. Но как ни тяжелы следствия этой войны, есть все-таки некоторая возможность уже теперь установить ряд положительных сторон. Если отдельной личности трудно раскрыть глаза на свои недостатки, то целому народу это оказывается особенно сложным, и он может долгое время жить с ними, не в силах стряхнуть с себя обветшалые элементы. Чем бы эта великая борьба европейских народов ни кончилась, но она сыграет радикальную роль в деле нашего народного и государственного самопознания. Это – то следствие, которое уже успело наметиться с достаточной яркостью во всех событиях нашей внутренней жизни. Да и понятно, мы оказались бы совершенно нежизнеспособными, если бы такие катастрофические события могли пройти мимо нас, не снеся все подгнившее и обветшалое, не встряхнув радикально наше самосознание. Война эта все больше и больше вырисовывается как жестокий экзамен на науку, культуру и цивилизацию. Германия блестяще выдерживает испытание на науку и организованность, но печально провалилась в пробе на культурную цельность, на общечеловечность. Мы можем дальше жить с сознанием, что если мы и оказались грешными во многих явлениях этих событий, то все-таки наши лучшие люди не пытались запрячь свой нравственный дух и свободную мысль в ярмо узконациональных интересов. Наше общество с честью вышло из этого испытания – идея человека и человечности горит в нашем сознании ярким блеском непреложной истины. При тяжелых внешних условиях жизни это сознание является огромным утешением в России для всех нас, в особенности для тех, кто несет на своих плечах тяготы национальных правоограничений; русское общество ясно сознает, что оно не забыло об идее человека и человечности.
Но испытания на науку мы не выдержали. Все события этой войны красноречиво говорят нам о том, какую роль в ней играют ученые и наука; старый бэконовский принцип «знание – сила» стал в наше время непреложной истиной. Это лучше всего характеризуется тем, что современная пушка и снаряды, играющие такую сокрушительную роль в этой войне, представляют собой сложные механизмы; создавать их и владеть ими может только наука; современные войска пользуются всеми чудесами современной техники, но эта техника абсолютно немыслима не только без большой культуры математического и естественно-научного знания, но и без общего очень высокого уровня науки и культуры вообще. История нам уже не раз давала поучительный урок, что науки в своем развитии идут в значительной степени в живом соприкосновении друг с другом, и культура не есть что-либо вырастающее из механического сложения отдельных областей знания, а она чем дальше, тем больше вырастает органически.
Таким образом вопрос о культуре науки и ученых принял у нас необычайно острую форму. Современная война показывает нам непреложно, что без науки и ученых мы не только не отвоюем себе соответствующего положения среди культурных государств, но мы рискуем утратить все приобретенное, поскольку речь идет о нас как о едином целом. Наш сравнительно невысокий научный уровень сознавался нашими лучшими людьми уже давно, но пока нас не всколыхнули тяжелые события, широкие массы и руководители нашей жизни не уделяли этому вопросу достаточно внимания и средств. Надо теперь надеяться, что поучительные события современности не пройдут для нас даром, и наука и ученые найдут благоприятные условия для своего развития.
Вопрос о культуре науки тесно связан с вопросом об ученых, а вопрос об ученых в сущности сводится к вопросу о привлечении и подготовке к научной и творческой работе лучших сил страны. Судьба науки решается тем, кто идет на этот путь и через какую подготовку проходит он. Вопрос о науке это в значительной степени вопрос о непрерывном привлечении и подготовке свежих молодых научных сил, это в очень большой степени вопрос об оставляемых при университете и о приват-доцентах. На этом вопросе мы и хотели бы остановить внимание наших читателей.
Недостаток у нас ученых, как мы уже заметили, давно обращал на себя внимание. Нам вспоминается, как одна из московских газет устроила несколько лет тому назад опрос представителей науки по поводу «ученого кризиса», и в опубликованных ответах ярко сказалось, как мало у нас сознают всю важность вопроса о привлечении и подготовке молодых ученых. В этих ответах центр тяжести заметно переместился в сторону большею частью справедливых жалоб на современное тяжелое положение профессуры, на ее в общем недостаточную правовую и материальную обеспеченность и т. д. Но вопрос об ученой молодежи остался как-то в тени. То же самое крайне печальное положение сказалось в глубоко взволновавшем всех начинании министерства выработать новый устав, создать для ученых более благоприятные условия. Там по существу, насколько можно судить по общим газетным сообщениям, в центре внимания стоял и обсуждался вопрос о профессуре, а вопросу о подготовке молодых ученых не было уделено столько внимания, сколько заслуживает этот вопрос. Все рассуждения, по-видимому, сводились к усилению контроля над оставленными; бесправное, крайне ложное положение доцентов в университетах не нашло достаточного освещения. Конечно, улучшение положения профессуры вызовет естественным образом усиление притока молодых людей, желающих посвятить себя ученой работе, но всего вопроса это далеко не решает.
Поскольку речь идет о подготовке молодых ученых, все совещания прошли под знаком непоколебимой веры в принудительные научные работы, в диссертации. А между тем считать традиционный способ подготовки ученых безупречным нет решительно никаких оснований. До сих пор молодые люди оставлялись при университете для подготовки к профессуре. Большинство остается без содержания или субсидии и в течение ряда лет влачит жалкое существование, бегая по городу из конца в конец по плохо оплачиваемым урокам, занимаясь нередко большую часть дня занятиями, которые не имеют никакого отношения не только к их специальности, но и к научной работе вообще. Что получается при таких условиях из подготовки к ученой карьере, читатель легко поймет сам, если примет во внимание, что состоятельная молодежь наша дает очень небольшое количество лиц, рвущихся к ученой деятельности. Большинство ищущих ее составляется из людей необеспеченных, часто уже успевших надорвать свои силы нуждой и посторонней работой в гимназии и на студенческой скамье. Проходит год за годом, и кандидат в ученые продолжает тянуться все в той же колее. В результате до магистрантского экзамена, в конце концов, являющегося, так же, как и всякий экзамен, мало действительным средством контроля, доходит значительно поредевшая группа.
Но вот экзамен сдан. Кандидат стал приват-доцентом. И вот с этой минуты он становится каким-то иксом, потому что он перестал быть учеником, но и не стал учителем; хотя он и преподает в университете, но он абсолютно бесправен, профессура в сущности все еще видит в нем неравного себе, это чувствуют и студенты, и все завершается по-прежнему давящими материальными условиями. Большинство доцентов люди с семьями, и вот заботы о хлебе гонят их из храма науки в те же средние школы, к частным урокам. Если магистрантский экзамен удается осилить в пять-шесть лет (нормально для него было бы вполне достаточно двух лет), то диссертация отодвигается из года в год, иногда на десять, на двенадцать лет даже у очень одаренных людей, потому что все их силы поглощены посторонним трудом. Когда измотанные кандидаты в магистры и доктора достигают, наконец, вожделенной цели, творческие силы успевают уже иссякнуть, и новому магистру или доктору остается только с грустью доживать свои «ученые» дни, снося тяжкое обвинение в бесплодии. Степени получены; обстоятельства, побуждавшие напрягать надорванные силы, отпадают, и наступает прострация. В то время как в Западной Европе 50 – 60-летний ученый с еще бодрыми силами, работающий и пишущий, является почти обычным явлением, у нас к этим годам большинство уже истратилось, и при наших условиях это иначе и не может быть. При неслыханной перегруженности работой и переутомлении получается при этом еще и то, что большинство вынуждено жить вне живого общения даже друг с другом. Тот благородный досуг, про который так красиво говорил античный мир как про созидателя наук и искусств, он стал для русского ученого, и в особенности для ученой молодежи, не обеспеченной ничем, далекой, невыполнимой, наивной мечтой. Все они живут в тягле жизни, оскопляющем их творческие силы. Жизнь бежит и у них в тяжких материальных заботах и впопыхах, а наука ревнива и требует всех сил.
Один из полноправных представителей университетской науки, высказывая свои соображения «К вопросу о новом университетском уставе»[291 - Проф. Кожевников // Утро России. 1915. № 154 (6 июня).], нашел, что приват-доценты занимают в университете крайне ложное положение, а корень зла он видит в том, что почетное звание приват-доцента получается слишком легко, и, достигнув желанной цели, гг. доценты успокаиваются и не торопятся получать степеней. Насколько правильны нарекания автора на магистрантский экзамен, настолько же странной представляется вторая половина его утверждения. Автор должен был бы, казалось бы, знать, что доцентское существование протекает отнюдь не в столь сладких условиях, что «блаженствующим» доцентам не хочется покидать их. В сущности, не будет преувеличением утверждать, что для многих и многих это доцентское существование превращается в настоящее мученичество, в особенности при современных условиях. Доцент с 16 недельными лекционными часами и с 20 и больше уроков в неделю стал обычным явлением. Если прибавить к этому, что дома такого «подготовляющегося ученого» ждут груды тетрадок, то получается совершенно безотрадная картина: времени и сил для научного труда и исследования нет, его находят только героические натуры. В этом и кроется разгадка того, что доценты «не торопятся» получать ученые степени. Удивляться приходится не тому, что они дают мало ученых трудов, а тому, что они вообще умудряются все-таки давать кое-что. Все рвутся между тяжкой борьбой за существование и стремлением к ученой работе. И это будет продолжаться до тех пор, пока ученая молодежь не будет поставлена в более сносные материальные условия. Погоня за хлебом может быть очень поучительной для характера, хотя и там она слишком часто превращается в губительный фактор, но с ученой работой она редко живет в мире: ученый труд требует всех сил человека и полного бескорыстия; материальные блага должны быть тут только возможным, но необязательным следствием; а борьба за существование переносит центр тяжести именно в последние.
Наука и научные работы не расцветают у нас потому, что наша ученая молодежь находится на положении пасынков жизни и университетов. В газетах проскользнуло известие, что срок пребывания в доцентах и количество часов занятий, которые может взять на себя доцент в других учреждениях, предполагается ограничить. Нетрудно понять, что эти меры приведут как раз к результатам, противоположным тем, которых от них ожидают: так как университет совершенно, даже минимально не обеспечивает приват-доцентов, то ограничение прав на занятия в других учебных заведениях заставит всех необеспеченных лиц – а их большинство – отказаться от работы в университете, так как иначе они просуществовать не могут.
Мы никак не можем отделаться от губительной веры в мощь принудительных средств. Всякому ясно, что ученый, нуждающийся в подшпоривании всякого рода принудительными средствами, есть жалкая фигура, недостойная науки и университета. Такие меры могут только оттолкнуть и без того немногочисленную группу ищущих ученого звания. Совершенно верно, что ищущих его надо подвергнуть строжайшему отбору, следует предъявить к ним повышенные требования, но чтобы иметь право предъявить такие требования и чтобы было из кого вершить этот отбор, необходимо обставить ученую работу жизненно привлекательными, благоприятными условиями, надо найти путь упрочения положения молодых ученых, а не оставлять их висеть в воздухе в невыносимом положении, разрываясь между небом (научным интересом) и землей (погоней за средствами к жизни), как это делается теперь.
Одной из важных реформ, на наш взгляд, должна быть следующая: оставление при университете для подготовки к профессуре должно быть более продолжительным и непременно оплачиваться достаточным содержанием. Самое же главное – необходимо радикально переменить путь достижения доцентуры. В то время как теперь для этого нужно выдержать магистрантский экзамен и прочесть две пробных лекции, было бы более целесообразным направить внимание оставленных при университете не на экзамен, а главным образом на научную работу, на самостоятельное исследование, и получение звания приват-доцента поставить в зависимость от представления самостоятельного ученого труда, магистерской диссертации. Экзамен, хотя бы это был магистерский экзамен, при всей нервирующей обстановке, в которой он совершается (в заседании факультета), сохраняет очень многие дурные стороны всяких экзаменов. Меньше всего он гарантирует дарование; но и в области эрудиции это средство контроля внушает большое сомнение в его пригодности. Как и всякий экзамен, магистерский экзамен вынуждает держаться строго традиционной колеи и установленных вопросов, и по общим жалобам магистрирующих сам по себе не только дает мало, но еще на целые годы отрывает их от живой научной работы, интересующей данное лицо, и от текущих жгучих вопросов современности. Лучшие годы уходят совершенно непродуктивно.
Чтобы этого не было, экзамен на магистра должен принять иную форму. Экзамен в узком точном смысле должен быть сведен на положение только побочного, сопровождающего явления – это должен быть своего рода ученый colloqium, собеседование по научным вопросам, относящееся главным образом к области, интересующей кандидата, и к родственным областям. Такое собеседование происходит тогда, когда молодой ученый уже предоставил свой труд, т. е. выполнил свою основную задачу. Ученый труд, как определенная задача, является наилучшим путем для подготовки ученого. Взяв какой-либо интересующий его вопрос с достаточной основательностью, молодой ученый вынужден будет выйти на широкое поле науки с широкими горизонтами, но он при этом выйдет в это безбрежное море не слепо, как в экзамене, а с определенным всеоживляющим заданием. Только творя такую живую работу, можно действительно многому и многому научиться. В сравнении с нынешним экзаменом тут будет то преимущество, что и знаний кандидат приобретет несравненно больше, и, кроме того, они будут живым богатством, а не мертвым балластом. Только такой научно-созидательный труд дает истинную эрудицию. Только такой труд, дополненный магистерским собеседованием, обладающим второстепенным значением, должен открывать путь к роли университетского учителя, хотя бы только доцента. Только при этом условии приват-доценты будут поставлены в более нормальные условия. Если они не подготовлены для роли университетских преподавателей, то их не следует пускать туда без достаточной подготовки, а если у них будет соответствующая подготовка, то нельзя их оставлять в теперешнем положении, когда они, собственно, уже не ученики, но и еще не учителя. Характерно, что приват-доценты редко решаются выступить в университетских диспутах по собственному почину, потому что они ясно видят, что профессура не относится к ним как к равным.