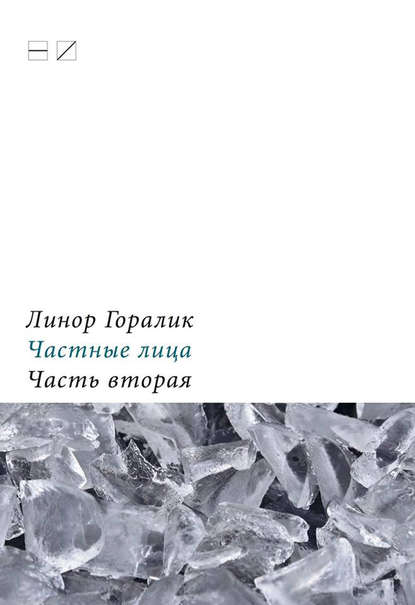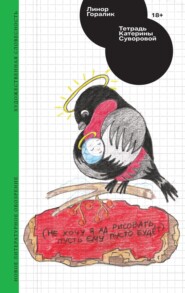По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ЛЬВОВСКИЙ. Я был школьник старших классов – и ходил на митинги довольно аккуратно. Не на все, но на многие – я их хорошо помню. Но большого удивления или ажитации – нет, кажется, не было.
ГОРАЛИК. Если возвращаться к событиям школы, что за история с переходом в другую школу, почему?
ЛЬВОВСКИЙ. Когда я был примерно классе в шестом, не помню, может, в седьмом, мне подарили набор «Юный химик», отчего я немедленно стал получать деготь из дерева и что-то еще настолько же интересное. А наборы эти были тогда не то, что сейчас, – в общем, было интересно. Я начал интересоваться химией и интересовался ей какое-то время.
ГОРАЛИК. Это ты был примерно классе в шестом?
ЛЬВОВСКИЙ. Да, видимо, так. Потом я ходил год в ШЮХ, вечернюю Школу юного химика при химфаке. Было это бессмысленно – она была рассчитана на постарше, о чем меня сразу же и предупредили: «толку не будет, но ходи». Я и ходил – условно говоря, вольнослушателем. Потом встал вопрос о том, чтобы перейти в какую-нибудь другую школу. Родители, видимо, понимали, что в тогдашней мне было чуть простовато, – ну и думали, куда поступать ребенку: учитывая, что в тот момент война в Афганистане еще не кончилась, это был вопрос довольно жизненной важности. Я попробовал поступить в физматшколу, из этого ничего не вышло, математика никогда не была моей сильной стороной. А химические классы в 171-й школе делал тот же человек, что и ШЮХ, Сергей Серафимович Бердоносов. Он невероятный, один из лучших учителей, кто мне встречался. В общем, я туда поступил, в химический класс 171-й школы, на Фрунзенской она была, – а наверное, что и есть до сих пор. Быстро выяснилось, что там слегка другая среда, что есть у меня с одноклассниками, как я бы сейчас сказал, какое-то общее дискурсивное поле. Это было отлично.
ГОРАЛИК. Чем именно? Что изменилось?
ЛЬВОВСКИЙ. Мне просто стало гораздо интереснее – все стало интереснее. Ну и вообще, high school – друзья, влюбленности, все как у всех.
ГОРАЛИК. Жизнь человека в девятом-десятом классе не состоит из учебы.
ЛЬВОВСКИЙ. Да. Ну как-то я влюблялся в одну барышню, в другую барышню, одной барышне нравился, другой не нравился… В последнем классе у меня возник постоянный роман. Она жила в подмосковном наукограде (недалеком), я ездил ее провожать, на электричке, далеко – но, с другой стороны, кто обещал, что будет легко? Я после этого еще долго мог без запинки перечислить все станции по пути следования (сейчас уже нет). Первый курс университета – а она тоже поступила на химфак – мы провели вместе, а потом все закончилось.
ГОРАЛИК. Были друзья, музыка?
ЛЬВОВСКИЙ. Друзья, да. И музыка, конечно. Дома не было магнитофона, только виниловый проигрыватель – и очень много джазовых пластинок, на которых я вырос, – в смысле, настолько, что при почти полном отсутствии слуха именно этому репертуару могу подпевать с довольно большой точностью. А как раз в конце 1980-х начали выходить на «Мелодии» разные пластинки, серия «Архив популярной музыки», которую составлял такой Андрей Гаврилов, пианист. Удивительным образом я приятельствую сейчас с его дочерью, она занимается современным искусством. Издавали они Led Zeppelin, Deep Purple, Doors, Creedence Clearwater Revival, что-то еще. Даже и до того, в 1986 году, вышел так называемый «Белый альбом» «Аквариума», состоявший наполовину из «Детей Декабря», наполовину из «Дней серебра», где-то он у меня был с автографом, если не потерялся в переездах. «Аквариум», который я впервые услышал в передаче «Музыкальный ринг» (как и «Аукцыон», «Странные игры», «Вежливый отказ» и других), был важной историей – причем, кажется, для многих моих ровесников, не только для меня, – не зря же Митя Кузьмин назвал всю эту историю с молодыми литераторами «Вавилоном». Цоя я полюбил существенно позже – и до сих пор отношусь к нему очень тепло. Не знаю, как сейчас, давно не пробовал, – но тогда удивительным образом оказалось, что он один из немногих в русском роке, чьи тексты не вызывают неловкости, когда читаешь их с листа (а тексты БГ вызывают местами). Они очень простые – но как-то вот…
ГОРАЛИК. Мне иногда вообще кажется, что Цой двигался со стороны текста.
ЛЬВОВСКИЙ. Не знаю, надо перечитать, – но вообще, это какая-то другая поэтика. Я думаю, что дело в том, что там было очевидно (и до сих пор очевидно) отсутствие претенциозности, это все-таки история, с одной стороны, немного дворовая, но с другой – достаточно культурная, чтобы не порождать диссонанса.
ГОРАЛИК. БГ иногда неловко читать, когда видишь ложно многозначительные места, которые во время исполнения вытягиваются голосом и музыкой.
ЛЬВОВСКИЙ. И это правда. Но я тут переслушивал его за некоторым делом в товарных количествах и хочу сказать, что все-таки этот период – как раз где-то между 1986-м и 1991-м – поразительный, вообще что-то невероятное.
Ну и вот. Я ходил на премьеру соловьевской «Ассы», она шла семь дней в ДК МЭЛЗ, неподалеку от Преображенки. Мы с Женей, товарищем моим из прежней школы, он был художником, изготовили то, что сейчас называется человек-бутерброд: мол, нам нужен лишний билет. Купить мы его не могли – деньги какие-то были, билетов не было. Каждый день там показывали фильм – и кто-нибудь играл концерт из тех, кто есть в фильме, – БГ, Цой, Матецкий, «Браво», кто-то еще. Но мы как раз попали на концерт БГ. В качестве бонуса нам показали неозвученный, только что отснятый кусок из «Анны Карениной» того же Соловьева (да, это столько лет он ее снимал; нет, ничего не помню) и клип БГ, который должен был в этот фильм войти: пел он песню Окуджавы «По смоленской дороге». Фотография – мы с Женей и плакат – она даже появилась в каком-то журнале… «Ровесник», «Смена»… что-то такое.
ГОРАЛИК. У тебя же тогда было афро?
ЛЬВОВСКИЙ. Вроде того. Как у Анжелы Дэвис, – говорили родители, – но это они просто никого такого больше не знали. Потому что Анджела Дэвис – она OK, как мы теперь знаем, все-таки не Леонард Пелтиер, – но тогда меня бы, наверное, больше обрадовало сравнение с – не знаю, Джими Хендриксом, например.
ГОРАЛИК. Ты ведь тогда уже писал? Что?
ЛЬВОВСКИЙ. Я начал с верлибров – но это продолжалось недолго. Потом пытался писать рифмованно-метрическим стихом, как все дети, – но быстро понял, что это не получается. Не в том смысле, что я этого не могу, – могу, это не очень хитрое дело, – а что мне не нравится так, что это мне не подходит, не органично.
Тут, правда, есть вот какая важная история: в восьмом, не то в девятом классе я начал читать журнал «Родник», который и для меня, и для многих моих ровесников (кто имел возможность дотянуться) стал системообразующим, очень важным изданием. Мы его выписывали, он довольно аккуратно приходил по почте из Латвии года до 1993-го, а потом перестал. Главным редактором русской версии (была еще и латышская) в то время довольно долго был Андрей Левкин. Будучи в Риге в 1990 году, я пришел к нему со стихами, прочитав которые, он сказал, что все OK, но рановато, приходите через пару лет. Он, надо полагать, не имел в виду, что я через пару лет приду (я и не пришел), это была, скорее, вежливая форма отказа – но хорошая, вежливая, я даже и не очень расстроился.
«Родник» в те годы был – и сейчас это уже совсем понятно – лучшим изданием во всем тогда еще СССР, особенно в смысле поэзии. То есть пока «Юность» (а тем более толстые журналы) еще мучительно раздумывала, поэт ли, например, не знаю, Пригов – или так себе графоман, – «Родник» уже публиковал и его, и Кибирова, и эссе нежно мною любимого с тех времен, когда я в Юрмале слушал «Свободу», Игоря Померанцева, и Владимира Аристова, и Татьяну Щербину, и Геннадия Айги и Елену Фанайлову, и Сергея Тимофеева. Там же в 1988 году, то есть на пять лет раньше «Иностранки», напечатали «Хазарский словарь» (в 1988 году это была, надо понимать, совсем другая книга, чем в 1993-м) и, например, роман Дубравки Угрешич «Форсирование романа-реки», который потом вышел книгой вообще чуть ли не в начале 2000-х. Там были тексты самого Левкина, какие-то удивительные рассказы про сквоты в западном Берлине, очерки из довоенной истории Латвии, большой текст про Гротовского; много латвийской (в переводах, по большей части, Сергея Морейно – ну или я так помню) и другой переводной поэзии – Целана они публиковали, в частности. Из латышских поэтов я тогда полюбил – и продолжаю любить – Яниса Рокпелниса, Юриса Кунноса и особенно Улдиса Берзиньша. Кроме того, в Риге, как и сейчас, была тогда своя среда с очень интересными авторами, писавшими на русском, мне тогда больше всех нравился Олег Золотов – большой и, по-моему, несправедливо недооцененный поэт.
Там же, в Латвии, был и еще один журнал, «Даугава», – из него я примерно в то же время (а скорее, что чуть позже все-таки) узнал про Витгенштейна, Карнапа, модальную логику и семантику возможных миров (ну, примерно). Писал обо всем этом туда Вадим Руднев. Надо понимать, что «Логико-философский трактат» при этом перевели и издали в СССР аж в 1958 году, – но это же еще нужно было хоть как-то представлять, о чем вообще речь. Статьи Руднева были как раз то, что надо, ликбез, производство контекста.
ГОРАЛИК. Время, о котором идет речь, – это твои выпускные классы и поступление в универ. Что там было?
ЛЬВОВСКИЙ. Поступать было как-то не очень сложно, проходной балл был, если я правильно помню, тринадцать. Сочинение в наш год было на зачет-незачет.
ГОРАЛИК. Не спеши, подожди. Выпускные классы.
ЛЬВОВСКИЙ. Ну, десятый класс я провел как любой школьник проводит десятый класс.
ГОРАЛИК. Готовится к поступлению?
ЛЬВОВСКИЙ. Именно. Я ходил к двум репетиторам, по математике и по физике. С математикой к тому времени, к сожалению, уже поздно было что-то делать, а физика прошла сравнительно успешно. Учил меня прекрасный сотрудник ФИАНа,[3 - Физический институт Академии наук СССР] я думаю, он давно в Штатах, и надеюсь, что у него все хорошо. Был он человеком несколько печальным, но чрезвычайно знающим – и очень хорошим преподавателем. Имел странную привычку долго молчать после того, как ты ответил на вопрос. Я, естественно, начинал сильно нервничать, предлагать варианты, он меня слушал, а потом, после длинной паузы, сообщал мне, правильный ли ответ я дал в начале. Где-то на пятый раз я сообразил, что он просто сильно заикается – и пережидает перед тем, как начать говорить. То есть это не специальный психологический прием, чтобы заставить клиента понервничать. После того как я это понял, жизнь стала несколько проще, конечно. Потом на экзамене один из вопросов доставшегося мне билета был по закону Архимеда – ну, повезло.
Вообще, на выпускной класс пришлось сильно отвлекавшее меня бесконечное чтение – это был как раз чуть ли не пиковый в смысле перестроечных публикаций год: воспоминания Одоевцевой, «Школа для дураков» Саши Соколова, стихи Льва Рубинштейна, набоковские «Дар» и «Машенька», «Чевенгур» и «Котлован», проза Нарбиковой – я намеренно все это называю вперемешку, потому что так эти тексты и поступали, сплошным потоком. Как мы все это успевали, я не знаю.
ГОРАЛИК. А собственные тексты в это время?
ЛЬВОВСКИЙ. Я писал немного, но постоянно, не прекращая.
ГОРАЛИК. Это было важно?
ЛЬВОВСКИЙ. Да. Как раз где-то в 1988-м я познакомился с Митей Кузьминым – на празднике поэзии «Московского комсомольца», куда я пришел своими ногами что-то читать, – так что, видимо, было важно, и очень – при моей нелюбви к собраниям, в которых мне все незнакомы и вообще. Праздник поэзии МК – это сейчас звучит чудовищно, конечно, но устраивал их тогда поэт Александр Аронов, автор, в частности, известного текста про Варшавское гетто, теперь уже покойный. Мероприятие было устроено по принципу «свободного микрофона», но зато, да, я там познакомился с Кузьминым – и это, конечно, было важное событие. От него я получил толстую пачку текстов Натальи Горбаневской, по большей части где-то конца 1950-х – конца 1960-х годов; стихи Алексея Ушакова, его с тех пор вообще напечатали один раз, в «Знамени», года два-три назад; почему-то подборку Михаила Болотовского, впоследствии занявшегося политикой – в рамках Конгресса русских общин, была такая националистическая протопартия. Из того, что я говорю, понятно, что набор был довольно хаотический, – но это обычная история с самиздатом, тебе в руки попадает то, что попадает, никакая система тут невозможна. У этого способа знакомства с культурой есть, впрочем, свои преимущества – бывает же, что какие-то тексты трудно взять и прочесть, – у всех есть предубеждения, – а таким порядком знакомства предубеждения обнуляются.
ГОРАЛИК. Тоже прелесть юности – когда ты не видишь всего контекста, а просто читаешь автора.
ЛЬВОВСКИЙ. И это правда, юность. В общем, чуть позже всего этого возникли те пять человек, которые были изначально Товариществом молодых литераторов «Вавилон». Митя эту историю рассказывал уже многажды, во всех возможных форматах.
ГОРАЛИК. Расскажи, пожалуйста, все равно – про то, чем это было для тебя и как оно было устроено в твоей голове.
ЛЬВОВСКИЙ. Митя, как мы знаем, был (и остается) человеком чрезвычайно деятельным и целеустремленным. Тогда он проявил желание найти других людей, пишущих что-либо, по его мнению, достойное внимания, и учредить с ними какую-нибудь структуру. Идея эта сейчас выглядит немного странно – если ты хочешь что-нибудь учредить, ты учреждаешь сразу издание, вот «Транслит», например. А тогда все учреждали какие-нибудь структуры – в диапазоне от политических партий и, я не знаю, Общества защиты прав потребителей – до вот, Товарищества, значит, молодых литераторов. Учрежденная структура состояла из Вадима Калинина, Вячеслава Гаврилова, Артема Куфтина, ВПС и потом еще такого Алексея Мананникова – но это уже позже. Мы собирались время от времени у Мити дома на совещания, Митя пытался склонить нас к тому, чтобы мы что-нибудь делали осмысленное в организационном плане. Ни к чему такому мы были, конечно, абсолютно не пригодны – но, видимо, до некоторой степени обеспечивали моральную поддержку, которая позволила ему, собственно, начать издавать журнал «Вавилон» – тираж пять экземпляров, поскольку «Эрика» берет четыре копии, вот и все, и этого достаточно. К слову, кажется, это и вправду была «Эрика».
К 1990 году в результате случайного стечения маловероятных событий Мите, который, впрочем, как мы помним, человек деятельный и целеустремленный, удалось получить от Михаила Сеславинского, возглавлявшего тогда, кажется, Комитет по печати, бумагу. В бумаге с печатью Верховного Совета СССР говорилось, что все государственные органы Российской Федерации должны содействовать подателю сего в разных его нуждах. Кроме бумаги, были и какие-то деньги – маленькие, но позволившие провести осенью 1991 года Первый Всесоюзный фестиваль молодой поэзии. Я уже к этому времени учился в университете.
ГОРАЛИК. Что это значило для тебя? Тебе это давало что?
ЛЬВОВСКИЙ. Фестиваль был очень важен. Потому что мы, все, кто в этом участвовал, вдруг получили контекст. Участников было много – мне кажется, что человек 40–50, – поскольку это был немного страшноватый, но волшебный мир (см. двухтомник НЛО про 1990 год), в котором происходили удивительные вещи. Возникший в тот момент контекст оказался очень широким. Я знаю, например, участника фестиваля, который сейчас является половиной одного из главных явлений российского современного искусства, – я имею в виду Сергея Проворова и группу «Провмыза». Еще один человек очень быстро, через два года после фестиваля, занялся какой-то сложной разновидностью политологии, уехал в Йель – и я не уверен, что хочу знать, как его теперь зовут и кем он работает. Кто-то стал известным в том или ином качестве критиком, вот, например, один из главных ненавистников той современной поэзии, которая для меня важна, Кирилл Анкудинов. Кто-то надолго перестал писать, а потом снова начал – как Олег Пащенко, который сейчас преподает на Факультете дизайна НИУ ВШЭ, или как ставший священником Сергей Круглов. Для меня главным во всем этом было разнообразие – какое-то невероятное, трудно представимое.
Контекст, о котором идет речь, мы получили в три дня, целиком, сразу весь. Потом возникали новые люди, в частности на втором фестивале в 1994-м, – но первичный фундамент для меня возник тогда, в 1991 году. Это было вполне чудесное ощущение, в буквальном смысле слова. Если начать перебирать, то важные фигуры в этом поколении – ну не все, конечно, но большинство – мне знакомы с 1990 или 1994 года. Интернета тогда, в общем, не было – и не было, соответственно, возможности установить эти связи иным способом, – так что это, и правда, было примерно чудо. Предъявленное разнообразие было при этом совершенно органичным, было понятно, что так и должно быть. При всем том, что я читал переводы и даже что-то на английском, до чего получалось дотянуться, вдруг выяснилось, что мои ровесники (ну, плюс-минус) заняты какими-то очень разными вещами, которые никак не могут быть сведены ни к какому общему знаменателю. Это, конечно, было очень важно – потому что так возник первичный механизм легитимации того, что ты делаешь, – хотя бы в твоих собственных глазах, – хотя я, разумеется, говорю только за себя.
В тот момент всем было не до нас, потому что многие старшие товарищи тогда впервые в жизни получили возможность, условно говоря, издать книгу, если не вообще напечататься. Заинтересованная же публика выяснила для себя, что, оказывается, на свете есть Кибиров, Рубинштейн, Цветков, Айзенберг, Парщиков, Драгомощенко и Жданов. Нами, разумеется, почти никто особенно не интересовался. Говоря «почти», я имею в виду, что были и исключения, например покойный Виктор Кривулин, он каким-то удивительным образом находил силы и внимание и для нас тоже.
Понятно, что это довольно общая ситуация для всех, кто только начинает заниматься каким-то таким делом, неважно, писать стихи, сочинять музыку или снимать кино, – но если сейчас у нас, по крайней мере пока, есть в этом смысле интернет и хоть какие институты – тогда не было ничего. И было непонятно – а чем ты, собственно, занят? Есть ли вообще смысл в том, что ты делаешь? То есть на фестивале были и старшие. Я помню, например, Жданова – вступавшего еще в то время во взаимодействие с внешним миром, – который даже вручил кому-то свою книгу со своим автографом, сопроводив вручение мрачным замечанием на тот счет, что русскую поэзию погубит распад формы.
Для меня было важным знакомство с уже упомянутым Олегом Пащенко и Яниной Вишневской. Мы с ними некоторое время составляли такое… не знаю, будто бы направление, – из которого, for good or for bad, ничего не вышло, – в смысле, ничего цельного. И бог бы с ним, с цельным, – но это важное ощущение в молодости, что вот, есть неподалеку другие люди, которые пишут пусть и иначе, чем ты, но вы при этом хорошо понимаете и чувствуете друг друга.
ГОРАЛИК. У тебя поменялось чувство себя в это время?
ЛЬВОВСКИЙ. Да, конечно. Я начал думать о себе как о человеке, который пишет стихи, занимается литературой: тогда это звучало чуть менее архаично и неуместно, чем сейчас. То есть появилось представление о том, что все-таки эта деятельность относится к области не только антропологического, но и социального тоже, что она имеет какой-то смысл, который может быть понятен и интересен другим. В этом месте ты начинаешь выстраивать далекие линии в прошлое (ну, или не очень далекие), что-то соображать, ориентироваться в этом пространстве. Году в 1993–1994-м на вопрос о том, чем я занимаюсь, я уже довольно уверенно отвечал, что пишу стихи.
ГОРАЛИК. Это примерно тот же момент, когда ты поступил на первый курс химфака МГУ?
ЛЬВОВСКИЙ. Примерно чуть раньше. Принес я туда аттестат химической школы, в котором стояло «пять» по химии, но «четыре» по физике, «три» по алгебре, «четыре», кажется, все-таки по геометрии – и пятерки по всем гуманитарным предметам. Дама в приемной комиссии смотрит на меня так, немного сочувственно, и говорит: «А вам точно сюда»?
ГОРАЛИК. А тебе было туда?