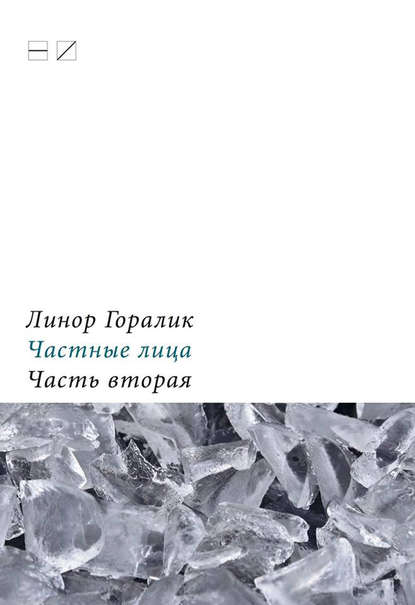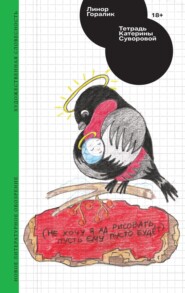По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ЛЬВОВСКИЙ. Да, меня это все очень интересовало, но в целом я был молод и беспечен. Не в смысле ответственности, нет, – я все время что-то зарабатывал (почти год у меня было две работы плюс учеба), я давал какие-то деньги бывшей жене, боюсь, не слишком большие, но сколько получалось, даже тогда платили студентам не очень. Но беспечен.
ГОРАЛИК. Две работы какие?
ЛЬВОВСКИЙ. В 1993-м я начал работать в школе – а еще полугодом позже нанялся в рекламное агентство, благо химфак не то чтобы меня очень нагружал всяким. Действительно, надо было посещать практикумы – в смысле, работать в лаборатории – а лекции и семинары… ну… В школе я преподавал язык и химию, как я уже говорил.
ГОРАЛИК. В каких классах?
ЛЬВОВСКИЙ. С какого класса преподают химию в школе? Начиная с восьмого по старой системе, то есть с девятого по новой. А английский – начиная с тогдашнего седьмого. Платили там, кажется, четыре доллара в час, это было отлично по тем временам. Но поскольку быстро стало понятно, что эмоционально я этого не выдерживаю, я начал искать какие-то другие варианты. Так примерно на половине срока работы в школе я нанялся в рекламное агентство, очень маленькое, – копирайтером.
ГОРАЛИК. Маленькое – это два человека? Двадцать человек?
ЛЬВОВСКИЙ. Маленькое – это директор, замдиректора, два дизайнера (поначалу) и два менеджера. Но люди они были энергичные. Я никогда не работал в больших агентствах, потому что хотел всегда иметь возможность не работать с теми, с кем работать не хотелось.
Про это все на самом деле написана целая книга – я имею в виду, конечно, «Поколение П». Пелевин довольно точно, хотя и гиперболизированно эти практики описывает: если снизить интенсивность процентов на восемьдесят, то получится очень близко к реальности. Я сидел там в основном по вечерам – потому что приезжал во второй половине дня, часам к четырем-пяти. Клиентом этого рекламного агентства являлась, например, компания, которой принадлежало некоторое количество московских оптовых рынков. Это был, как я понимаю, большой и неочевидно устроенный бизнес – некоторым образом оптово-розничные рынки тогда выполняли функцию казино из голливудских фильмов. В смысле: огромное количество наличности, легко отмывать деньги, такое. Платили эти люди кэшем, я помню, как наш менеджер приезжал от них с полутора, что ли, миллионами.
ГОРАЛИК. Миллионами чего?
ЛЬВОВСКИЙ. Рублей – но это все равно было много. Он был скромного вида человек и возил деньги в непрозрачных пластиковых пакетах – то есть складывал их в этот пакет и ехал на метро: заподозрить, что этот человек везет деньги, было невозможно. Клиенты были у агентства не то чтобы в малиновых пиджаках, не бандиты, а следующий уровень, во всех смыслах. Работать было сложно – но потому, что у них был до того гениальный копирайтер Юра Синев – и они все время меня сравнивали со своим бывшим гениальным копирайтером. Потом в какой-то момент – дела, видимо, шли хорошо – они смогли его переманить обратно, и мы стали работать вместе. Вполне, надо сказать, успешно, потому что человек он хороший, с отличным чувством юмора, а главное – в отличие от меня, чувствовал, так сказать, свою аудиторию.
Потом это рекламное агентство развалилось – и мы вместе с Синевым и с еще одним менеджером, который с нами работал, открыли уже совсем маленькое агентство – то есть это они открыли, я там был просто наемным работником. В этом совсем уже маленьком агентстве, собственно, начал свою карьеру известный дизайнер Олег Пащенко. Нет, вру, не совсем начал – но близко к тому.
ГОРАЛИК. Тебя это все чем-нибудь интересовало?
ЛЬВОВСКИЙ. Некоторым образом да. Это была такая странная практика… Чтобы было понятно, единственный вид рекламной продукции, который я всегда умел делать хорошо и до сих пор, в общем, умею, – это длинные рекламные тексты во вкусе американских 1950–1960-х.
ГОРАЛИК. Адверториал?
ЛЬВОВСКИЙ. Нет, не совсем. Адверториал – это текст, который немножечко притворяется «настоящим», – не знаю, статьей например. А то, о чем я говорю, – совершенно откровенная рекламная полоса, просто на ней написано довольно много букв. Тогда как раз придумали, что рекламный текст может быть короткий, может быть длинный, неважно, – главное, чтобы его прочли до конца. Это я научился – а остальное не очень.
ГОРАЛИК. Почему?
ЛЬВОВСКИЙ. Ну как сказать… It was fun. В конечном итоге меня интересовало только одно: написать в заданных рамках такой текст, который нравился бы мне самому. Это такая, пусть и очень специфическая, но разновидность, конечно, литературной практики. Меня интересовали такие рекламные тексты, которые, будучи написаны в 1962 году – а в 1998-м будучи очищены от всего, то есть и от рынка, и от уже давно почившего бренда, и вообще от сколько-нибудь локального в пространстве и времени, от контекста, – остаются в каком-то смысле литературой. Я с несколькими такими знаком, они отличные – и мы не говорим про чисто манипулятивные техники, это очень просто делается. Хотя сама реклама – как прагматика – разумеется, манипулятивна по определению, не о чем говорить.
ГОРАЛИК. Ты можешь представить себе, что сделал из этих текстов книжку?
ЛЬВОВСКИЙ. Нет, без моих текстов история рекламного копирайтинга в целом отлично обойдется, – но я бы с удовольствием перевел для какой-нибудь книжки в этом роде десять-двадцать западных, в основном американских образцов жанра.
ГОРАЛИК. Это должна быть сильная и впечатляющая, я думаю, сентиментальная литература, потому что она и пишется ведь как сентиментальная литература, сентиментальная новелла.
ЛЬВОВСКИЙ. Так и есть примерно. Но в конечном итоге, говоря о рекламной вот именно что работе, – занятие это, конечно, чрезвычайно фрустрирующее. Потому что клиентский бизнес, потому что клиент всегда выбирает из предложенных вариантов самый плохой, потом еще некоторое время он довольно сильно этот вариант портит – а вот уже в сильно испорченном виде он, наконец, идет в печать. Ну невозможно же это терпеть сколько-нибудь долго, ты понимаешь.
ГОРАЛИК. Мне кажется, мало что так рассказывает человеку об устройстве, простите, капиталистического общества, как работа в рекламе.
ЛЬВОВСКИЙ. Да нет, не про устройство, а гораздо интереснее – она рассказала мне много удивительных человеческих историй. Она, работа эта, так устроена, что к каждому бизнесу, с которым ты работаешь, ты приходишь как бы в гости – ну и смотришь, что там происходит. И всегда видишь этих людей, в смысле, которые его делают. Вот человек, который занимается производством, прости господи, гербицидов, – а офис у него сделан в японском стиле, экологичном таком, – и стены из десятков аквариумов.
ГОРАЛИК. Он на них тестирует безвредность?..
ЛЬВОВСКИЙ. Нет, он ничего на них не тестирует.
ГОРАЛИК. Просто по любви?
ЛЬВОВСКИЙ. Я думаю, по контрасту. Нет, гербициды у него по тем временам были хорошие, я проверял, естественно. Не те, которые убивают все живое, а довольно избирательные, – ну, по сравнению с гербицидами – моими ровесниками, представителями, так сказать, предыдущего, советского поколения…
Или, не знаю, бывший ракетчик, уволившийся из РВСН, который открывает завод по производству косметики в Подмосковье, – и создает, предположим, около тысячи рабочих мест, это примерно весь город и есть. И вот он ходит по заводу, здоровается за руку со всеми, кого видит, – и спрашивает, как у них дела. Ты, конечно, думаешь, что это демонстративное поведение (хотя зачем?), – но потом он уходит, коллеги слушают технолога, а я иду за ним так, что он меня не видит, – ну и нет, все то же самое, то есть не демонстративное.
То есть я – слава богу, снаружи, но видел, как были устроены очень разные и довольно многочисленные бизнесы 1990-х и немного начала 2000-х. При этом я работал, например, и с «Менатепом» (ну, с каким-то из мелких предприятий холдинга), и, не знаю, с фабрикой макаронных изделий в Липецке – и предпочитал, в общем, скорее второго типа клиентов, с макаронами или чем-нибудь другим вещественным. Была, например, компания, которая строила железнодорожные мосты, она единственная из всех, кто этим тогда занимался, была частной, в анамнезе там был, если я правильно помню, один из мостостроительных отрядов БАМа. Ты приходишь в офис и видишь, что он весь заполнен, натурально, советскими инженерами лет примерно 45–60 – только что они одеты в сравнительно дорогие костюмы (которые на них не сидят, они их не умеют носить). И вот, они строят мосты – и ни о чем, кроме как об этом, говорить не могут и не хотят, главное, это единственное, что их занимает.
Я предпочитал вот их – или макароны из Липецка – не то чтобы даже по принципу «можно потрогать», а скорее потому, что им нужно было разговаривать с другими бизнесами, а не с миллионами людей, как клиентам из FMCG.[4 - FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного спроса, рассчитанные на массовый рынок конечного покупателя.] Вся коммуникация происходит между двумя людьми, которые предполагают друг в друге рациональность, когда дело доходит до принятия решений. В этом случае ты и имеешь дело с ними, а не с человеком, возглавляющим «рекламный отдел» и полагающим, что он (или она) может говорить на языке, как они это называли, «простого народа». Язык этот, разумеется, конструировался из головы – и это в огромном большинстве случаев было ужасно – поскольку никаких исследований не было (впрочем, они не очень помогают). То есть эти люди в рекламных отделах, они брали примерно себя, делили на пять – и объясняли про полученную в результате этих действий фигуру, что-де это вот и есть «простой народ». Российская реклама была (и остается) так плоха не потому, что граждане иначе не понимают. А потому, что начальники рекламных отделов и самих компаний для себя решили, что граждане иначе не понимают.
Тогда – нет, конечно, а вот сейчас мне очень ясно видно, что это был базовый, основной сюжет постсоветской истории, разворачивавшийся не только в рекламе, конечно, а повсюду – в практиках СМИ, в институциональном дизайне, на уровне повседневности… Перед тобой сидит человек, который говорит: «Нет, это народ не поймет». Проверить это утверждение он в принципе может, но жалко денег, усилий, а главное, времени, – тем более что он точно знает, как лучше, этот человек. Причем не обязательно как именно ему лучше – а как вообще лучше. Чем объяснять, вести переговоры, вырабатывать общий словарь. Это позиция, из которой легче, эффективнее – и просто makes more sense – упростить коммуникацию до значительных степеней нечленораздельности, редуцировать сложность языка и языковой коммуникации. Конечно, за нынешнее печальное состояние не они одни в ответе, it takes at least two to tango, – но публично, как они иногда любят, удивляться неразумию граждан не надо, нехорошо.
ГОРАЛИК. Я буквально вчера вдруг поняла, кажется, чем отличается советская пресса от человеческой: не позициями, политическими взглядами и тому подобным, а предположением, что читатель – например, некритичный слабоумный идиот, лишенный способности к самостоятельному мышлению.
ЛЬВОВСКИЙ. Про советскую прессу – это более сложная история.
ГОРАЛИК. Нет, я имею в виду нынешнюю «советскую прессу».
ЛЬВОВСКИЙ. А!
ГОРАЛИК. Это предположение легло в основу практики массовых продаж через телевизор – и в конце концов, язык, созданный на основе этого предположения о читателе, зрителе или о ком еще, – возобладал.
ЛЬВОВСКИЙ. Да, именно. Это поучительная история – на самом деле, только одна из того времени.
Но вообще, весь бизнес 1990-х, люди, которые его делали, – они очень сильно демонизированы, условные сегодняшние «мы» говорим о них слишком просто. Ну вот, как наши с тобой младшие коллеги, в большинстве своем левые, – которые представляют себе человека, занимавшегося в России бизнесом в 1990-е, либо как совсем откровенного бандита, либо, в лучшем случае, как человека, у которого в голову инсталлировано программное обеспечение «Самые ужасные цитаты из Айн Рэнд, которые вы только можете вообразить», плюс небольшая резидентная софтинка «Ницше-98», которая в критические моменты тихо произносит над ухом: «Падающего – толкни». То есть были и такие, конечно, – но немного, уж точно не больше, чем легко идеализируемых выпускников МФТИ в водолазках. И от тех и от других почти ничего не осталось. Думаю, впрочем, что и от ракетчика моего тоже, – в ходе событий, как мы видим, выжили, по большей части, совсем уже четвертые, пятые, про другое.
В общем – истории, возможность посмотреть с разных сторон.
ГОРАЛИК. Наш разговор потихоньку движется по трем магистральным линиям: заработки, тексты, жизнь. Давай поговорим про то, что с этим всем происходило в районе 1998 года, когда многое начало меняться для всех, – то есть до кризиса?
ЛЬВОВСКИЙ. Ну, как мы уже говорили, где-то с 1990-го по 1994–1995 год я находился, применительно к текстам, в довольно интенсивном взаимодействии с Олегом и Яной – в общем, и не только применительно к текстам, так редко бывает, чтобы только про буковки. Это бывало и про присутствие – странными способами, но да. Скажем, когда я жил в ГЗ, мы с Олегом несколько раз просто садились вместе – довольно надолго – и писали одновременно, иногда обмениваясь какими-то репликами и фрагментами. Сейчас мне это кажется очень странным, я не очень знаю, как про это думать, – но тогда было нет, не странно. Был еще один, то ли более, а то ли менее странный модус взаимодействия, такие многочасовые бдения втроем с нашим другом Никитой Поляковым – с музыкальными инструментами и другими звучащими предметами, под запись. Не то чтобы эти записи кто-нибудь потом особенно переслушивал – и не то чтобы они делались в, не знаю, архивных целях. Это были… не знаю, никогда не случалось раньше подумать, – какие-то странные практики фиксируемого соприсутствия, что ли.
Потом и Яна, и Олег по разным причинам довольно надолго замолчали, это было не очень просто, – ну, то есть для меня, про остальных участников не знаю, – а потом, летом 1997 года, моя частная жизнь довольно сильно и неожиданно изменилась. Применительно к интересующему нас сюжету это выразилось в том, что мне понадобился новый способ складывать слова; даже не то что новый, а другой. Я стал писать прозу – ту, что потом превратилась в «Слово о цветах и собаках».
Генезис ее довольно прозрачен, я, наверное, не буду на этом останавливаться: лимоновский «Дневник неудачника» – Евгений Харитонов – отчасти Богданов – Улитин. «Распад атома» Георгия Иванова, который я сначала не прочел глазами, а услышал – по «Свободе», что ли? – как в детстве, только это уже был 1993-й, кажется, год, я проводил лето с дочкой на даче. Задним числом, наверное, и Розанов в каком-то смысле, не совсем одним текстом, как Лимонов, скорее десятком фрагментов. Плюс несколько рассказов Буковски, плюс риторические фрагменты Вулфа (Томаса, не Тома), в переводах Гуровой, Галь и Голышева. Это перечисление можно продолжить и дальше – но в первом приближении…
Истории я рассказывать не умею, никогда не умел и уже никогда не буду – но об историях речь и не шла, они были не важны, а важен был этот мерцающий, то ли существующий, то ли нет, зазор между автором и говорящим – проза понадобилась за этим, в остальном я не знаю, что с ней делать.
Книга вышла в «Новом литературном обозрении» в 2003-м, что ли, попечением Сережи Соколовского, который был куратором серии, – и, в общем, с тех пор я прозу почти не пишу. У меня лежит еще сколько-то текстов, на сборник чуть поменьше, они прибавляются со скоростью в среднем раз в три года где-то. Я не зарекаюсь, откуда мне знать, но в общем, видимо, это была какая-то ситуативная история, локальная. Но важная – и вот почему. У любого пишущего человека в какой-то момент так или иначе возникает представление о том, как он пишет, или о том, как он хочет писать, или о том, как он должен писать, которое оказывается – ну, даже не рамкой, а… Ну, скажем, письмо как занятие – это процесс с памятью. То есть такой, что предыдущие его стадии определяют последующие – более или менее сложными способами, в большей или меньшей степени. Когда я говорю «новый способ», я имею в виду скорее «чистый лист», новый процесс, еще не отягощенный памятью о себе самом, как прежний. Это невозможно – но мы знаем, что и у «невозможно» всегда, как это ни странно, существуют разные области, перепады высот, ландшафт.
ГОРАЛИК. Кстати, про другой язык: ты упомянул звук – раз, второй, третий, – и есть еще твои своеобразные отношения с фотографией, – и вот скажи, а можешь ли ты представить себе, что в какой-то момент тебя бы увел от текстов по-настоящему другой язык?
ЛЬВОВСКИЙ. Я думаю, что если бы я учился, скажем, музыке в детстве, она вполне могла бы стать таким «совсем другим языком». С фотографией я нахожусь в отношениях – но в целом я пытаюсь сделать так, чтобы она оставалась тем, что называется «хобби», то есть пространством, в котором я вообще никому ничем не обязан, могу, как одна известная нам женщина говорила по совершенно другому поводу, «валяться в канаве». Плюс, это хорошее средство для тренировки в какой-то момент почти атрофировавшейся способности – ну… видеть иногда что-нибудь, просто так, как картинку.
Со звуком сложнее, но тут момент, видимо, уже упущен. Это нет, не та вещь, которой ты можешь внезапно быстро научиться в сорок три года, – как бы тебя это ни интересовало, – тем более что есть сколько-то вещей, интересующих меня как минимум так же сильно. Но звук это да, важно. Важно – в смысле, я пишу вслух. То есть любой текст проговаривается в процессе десятки раз, сотни, иногда, может, больше. Поэтому графика текста – она то такая, то сякая; то одно слово на строчку, то мне самому иногда кажущиеся дикими многоуровневые конструкции с лакунами. Это по-настоящему проблемная история, к бормотанию этому помимо слов в идеале требуется что-то вроде (неконвенциональной) нотной записи, – которая тоже, конечно, не помогла бы. И да, на этом месте мне уже самому хочется у себя спросить что-нибудь язвительное, типа «А рифмованным метрическим стихом писать не пробовали, нет?». Пробовали, да.
ГОРАЛИК. Шаг назад: 1996 год, книжка…
ЛЬВОВСКИЙ. Это было очень приятно, с одной стороны, а с другой – не знаю… Было понятно, что это все-таки некоторый локальный жест.