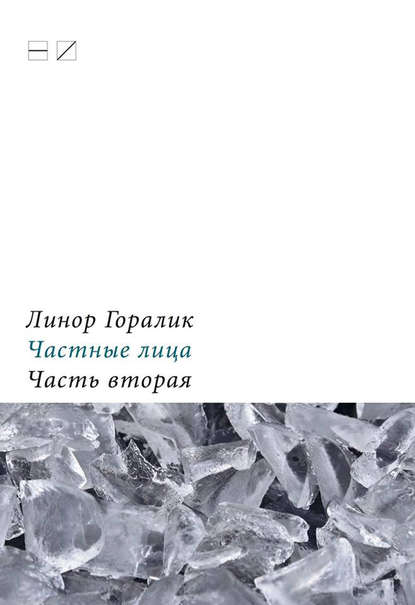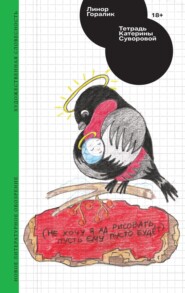По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ГОРАЛИК. Ужасно странно: ты говоришь о ней, как если бы она была чем-то ненастоящим.
ЛЬВОВСКИЙ. Да, наверное, – но никакой более настоящей быть не могло.
ГОРАЛИК. Живой, но маленький.
ЛЬВОВСКИЙ. Да, живой, но маленький, абсолютно верно. Нет, это очень важная книжка, помимо прочего, потому, потому что я избавился от некоторого способа писать, который в ней предъявлен и который кажется мне глубоко несамостоятельным, совсем. Я вообще, естественно, не уверен в самостоятельности собственного письма – но применительно именно к этому корпусу текстов я могу, кажется, в деталях описать, где в ней кто, где что, все очень очевидно. Не уверен, что это настолько же очевидно извне, но изнутри – о, да.
ГОРАЛИК. Когда эта книжка вышла – как ты с ней взаимодействовал и как другие? Про нее кто-то писал?
ЛЬВОВСКИЙ. Про нее писал Илья Кукулин в глянцевом журнале «Медведь», рецензия эта жива, висит на Литкарте. Больше никто, кажется, ничего не написал (и было бы странно). Наверное, была презентация, я не помню. Тогда уже, кажется, существовала «Хроника литературной жизни Москвы», можно проверить. Наверное, она где-то немного продавалась, уже были независимые книжные к тому моменту. Ну или один независимый книжный, «19 октября», он же «Изба», на Полянке, начинание покойного уже Марка Фрейдкина.
ГОРАЛИК. Про личную жизнь хотим говорить (зная, какой ты любитель говорить про личную жизнь)?
ЛЬВОВСКИЙ. Я уже говорил про личную жизнь применительно к тому моменту, когда я развелся.
ГОРАЛИК. Да, ты сказал, что она была «сложной», – и так мы узнали много нового. Движемся дальше. 1996 год, впереди кризис.
ЛЬВОВСКИЙ. Это он еще сильно впереди. За следующие два года я сменил работу (одну рекламную на другую рекламную) – вообще, чтобы было понятно, это были времена примерно как потом… не знаю, скажем, 2007 год. Все росло, что-то даже и как на дрожжах, маленькое агентство, в котором я работал, было OK, но всем было немного скучно – и я ушел в другое. Тоже маленькое, хорошее, только что из мужчин там были я, курьер пятнадцати лет – и шофер нашего директора, Марины. Это тоже был довольно полезный опыт, занималось агентство в основном глянцем – так что я понял тогда (ну, мне кажется), как он устроен. Некоторое время у агентства даже имелась собственная телепередача на неглавном канале – и однажды мы даже сделали, спасибо Марине, прогрессивную передачу об однополых браках с участием все того же Мити Кузьмина в качестве эксперта – но, как явствует из последующих, особенно недавних событий, успехи наши на ниве народного просвещения оказались не весьма велики.
В конце, что ли, 1997-го я оттуда ушел – в какое? – четвертое уже, выходит, по счету, агентство, оно специализировалось на наружной рекламе. Там начальником моим был человек повышенной степени прекрасности, Саша Эйдинов, он, к сожалению, уже умер. Был он человеком удивительно добрым, тонким и к рекламной работе приспособлен был, кажется, едва ли не меньше моего. В значительной степени он, собственно, делал для меня работу в этом месте выносимой – при том что остальные мои тогдашние коллеги тоже не оставляли желать лучшего. Просто на самом деле мне уже тогда, видимо, копирайтером быть наскучило, только я этого еще не понял. Там я счастливо пересидел кризис 1998 года – то есть нам срезали зарплату больше чем на треть, все как положено, – но пересидел, в общем. Последним, что я придумал перед тем, как разбился о землю рынок ГКО (до того изрядно попиравший народы), оказалась социальная реклама минеральной воды Vera: в смысле, Московское метро попросило их оплатить какую-нибудь социальную рекламу за разрешение поставить на ней свой логотип, где-нибудь сбоку, в углу. На плакате был изображен небольшой ребенок, цеплявшийся за штанину взрослого, а написано на нем было уже не помню как именно – но в том смысле, что «ты нужен, тебя никто не заменит». Вода Vera утекла куда-то туда же, куда в августе 1998-го все утекало, а плакат остался – и еще года два занимал пустовавшие поверхности под землей. Логотип рекламное агентство метрополитена по прошествии года обрезало – так что неожиданно вышла действительно социальная реклама, безо всякой воды.
В этом агентстве я и пересидел кризис – примерно до лета 1999 года, когда уже если не все, то многое выровнялось, тогда как раз начали расти цены на нефть. Они – в смысле, агентство, а не цены – заплатили мне какое-то даже выходное пособие, и я провел три месяца на своем балконе в квартире, куда к тому времени уже переехал, на Преображенке, – делая разную работу по фрилансу и читая книжки, которые мне хотелось читать. Тут я понял, что вот ровно этого-то мне и не хватало.
Так я перестал ходить в офис – ну, не совсем, конечно, но в целом перестал и сколько-то лет после этого пробавлялся фрилансом. Были еще какие-то регулярные работы, ни одна из них не продлилась больше года. Три месяца я как-то даже с подачи одной очень известной писательницы трудился редактором бригады новостей на NTV.ru – это был новостной сайт при том еще, старом НТВ, сделанный, как все тогдашние новостные сайты, Антоном Носиком. И это был как раз тот момент, когда старое НТВ давили и разоряли. Работа бригадира новостей и так, по правде сказать, чудовищно тяжелая, примерно по пятнадцать часов в сутки, четыре через четыре, – а тут еще ты находился к тому же в эпицентре катастрофы. В штат меня, слава богу, не взяли, потому что я не прошел полиграф – по крайней мере, тогда во всех компаниях холдинга «Медиа-Мост» это практиковалось: механизация ручного прежде труда кадровиков, железный конь на смену крестьянской лошадке. Не прошел, кстати говоря, не потому что соврал, а потому что не соврал.
ГОРАЛИК. А можно отсюда поподробнее?
ЛЬВОВСКИЙ. Мне задали вопрос (ничего криминального), на который я должен был ответить «нет», – но поскольку это было бы неправдой, то я с удовольствием ответил «да». Но проверяют же не на правдивость – Бобков, который, я полагаю, и завел там эти обычаи, наверное же, понимал, что полиграф вещь совершенно в этом смысле бесполезная. Проверяют тебя на адекватность – просто с более серьезным лицом, чем обычно. Ну, то есть «не играйте хорошо, играйте правильно». Через неделю, что ли, выяснилось, что все-таки они готовы меня нанять даже с проваленным полиграфом, но я уже к тому времени достаточно отоспался, чтобы справиться со своей тревожностью (немедленно нанимайся в штат! ты умрешь под мостом!), и отказался.
Известная писательница была прекрасным, адекватным начальником; денег платили как-то нормально – но ты, значит, сидишь и пятнадцать часов подряд читаешь новости трех русских и трех, кажется, англоязычных агентств. Идут они при таком раскладе с плотностью, если я правильно помню, в среднем около тридцати новостей за 10 минут. Ты определяешь главные, раздаешь их новостникам на рерайт, а потом редактируешь то, что они написали, – это все, надо понимать, одновременно происходит. Ну, то есть я не уверен, что позиция сборщика у конвейера завода Генри Форда представляет собой менее привлекательную позицию. Может даже и более – сравнивать я не пробовал.
Зато находясь у этой сборочной линии, ты видишь, как возникают и сдуваются медийные сюжеты, – и понимаешь, что, по крайней мере когда речь идет о СМИ, а не о чистой, так сказать, пропаганде, управлять этим, видимо, нельзя – только до известного предела, а дальше все – «выше локтя не пойдешь или колена». Очень сложная система с огромным количеством факторов даже не то что неконтролируемых, а стохастических – по крайней мере в глобальном масштабе. Ну, то есть, вот, ты видишь, как надувается пузырь сюжета про использование НАТО в Сербии боеголовок из обедненного урана. Все это, в общем, яйца выеденного не стоит. Единственное реально пугающее, что здесь есть, причем не вообще, а для незнакомых с подробностями слушателей, читателей и зрителей, – это слово «уран». Через три недели пузырь сдувается – и в сухом остатке нет ничего, кроме знания о возможности манипулировать огромными массами людей при помощи одного слова. Но и поддерживать эмоцию, которую это слово порождает, бесконечно долго – или хоть сколько-нибудь долго, – невозможно. Потому что есть другие желающие манипулировать, у них есть другие слова, а есть еще просто новости, etc.
Когда я говорю «пузырь», я, конечно, имею в виду market bubbles, вроде того, что возник как раз в конце 1990-х в IT-индустрии. Стохастические процессы, флуктуации с обратной связью – управлять таким сложным хозяйством невозможно. Можно пытаться подталкивать его в каких-то направлениях, но опять же, поскольку в системе очень много параметров, исход непредсказуем. Как-то раз – я думаю, это был момент примерно начала war on drugs в Штатах, – DEA, кажется, разместила на ТВ ролик: некто разбивает яйцо, выливает его на шипящую сковородку, и устрашающий закадровый голос говорит: «Вот что происходит с вашим мозгом, когда вы употребляете наркотики…» Как это повлияло на употребление наркотиков, нам теперь примерно известно, – никак, – но зато через месяц в надзорные органы обратился Союз производителей куриных яиц с жалобой на то, что дети по всей Америке стали отказываться есть омлет на завтрак. Это даже если и анекдот, то анекдот очень точный, все так и есть.
Я и сам производил какие-то безответственные, но невинные сравнительно эксперименты на этот счет. Ну, то есть приходит субботним утром от «Интерфакса» совершенно безумно, в общем-то, выглядящее сообщение о том, что-де ученые открыли новую смертельную болезнь, именуемую «хронической семейной бессонницей», ставишь его на сайт – и вот оно уже днем по радио, а вечером по телевизору: холдинг же. Сейчас я бы уже ничего такого делать не стал, но было интересно. И становится понятно, как устроен соблазн телевизионной работы, – очень много людей на том конце. Меня это, скорее, пугает – но я легко могу представить себе людей, которых нет, не пугает. То есть у тебя, по сути, огромная власть, но, знаешь, она какая-то такая – никогда не известно заранее, как отзовется. Если не заниматься пропагандой, такой, как сейчас, – ты никогда не знаешь, что из этого получится. И ощущение вот этого большого масштаба, оно для меня оказалось пугающим и в конечном итоге неприятным. Я не люблю принимать на себя ответственность – по крайней мере такого рода.
ГОРАЛИК. Это мы подобрались к 2000 году примерно. Между 1996-м и 2000-м с твоими текстами довольно много происходило.
ЛЬВОВСКИЙ. Что-то происходило, я продолжал писать. В 2003 году вышла книжка прозы, потом в 2004-м «Стихи о родине», в которых, к некоторому моему теперь удивлению, оказалось больше текстов, написанных раешником, чем… не знаю, чем, как мне казалось, должно было оказаться. У меня есть для этого по крайней мере два объяснения в запасе, одно контекстуальное, одно историческое, – но это уже совсем будет скучно, наверное. В целом я, видимо, являюсь как автор продуктом того момента, когда мы все получили сразу, – очень разных авторов, очень разные оптики, очень разные языки – и выбор, условно говоря, вектора (а всем приходится как-то определяться в поле, сознательно или не очень), – так вот этот выбор оказался очень затруднен. Или, можно сказать, я не понимал не только то, как его делать, но и зачем.
ГОРАЛИК. Ты имеешь в виду, получили буквально – доступ к текстам?
ЛЬВОВСКИЙ. Да. Возможность ценностно ранжировать для себя разные способы письма была. Необходимости не было. Они мне представлялись (и представляются) в совокупности таким садом расходящихся тропок, равноценных возможностей. Кто-то сделал более или менее однозначный выбор, а я не справился – возможно, в силу внутренней нерешительности или непоследовательности. Сейчас я могу включить режим сравнительно отстраненной рефлексии и такое ранжирование произвести, но тогда… Книга эта, «Стихи о родине», сейчас, впрочем, не кажется мне удачной, не в последнюю очередь в силу – хочется сказать «эклектичности», но это не она, это, пользуясь совсем современным термином, «мозаичность», некогерентность.
ГОРАЛИК. В каком году она вышла?
ЛЬВОВСКИЙ. В 2004-м, кажется, я не помню, – это все было как-то долго и на последнем этапе мучительно – и, в общем, нельзя не признать, что Айзенберг, курировавший тогда поэтическую серию ОГИ, был прав, что не хотел ее издавать, по крайней мере в таком виде.
ГОРАЛИК. Что с ней не так?
ЛЬВОВСКИЙ. Я пытался прибегнуть к такому способу письма, который был органичен происходившему, но не был органичен мне. Там есть тексты, которые я очень люблю, – ну, сколько-то, но в целом… Можно, наверное, сказать, и что «не кажется цельной», но это не совсем про то. Мне вот именно в этом случае совсем сложно сейчас понять, в чем было дело. То есть я догадываюсь – но бог с ним.
Зато из нее стало понятно, что, с одной стороны, монтаж раешного стиха и чистого vers libre для меня как-то внутренне вполне органичен, а с другой – что это надо делать иначе, скорее в рамках одного текста, а не в рамках корпуса. Потому что корпус – долгое дело, а состояния – быстрое.
ГОРАЛИК. Но в целом это стало понятно не сразу?
ЛЬВОВСКИЙ. Это я сейчас так считаю.
ГОРАЛИК. Когда она вышла, ты этого не чувствовал?
ЛЬВОВСКИЙ. Нет, впервые я это увидел, наверное, через какое-то время, не очень длинное, – но нет, не сразу, конечно, так не бывает (ну, со мной).
ГОРАЛИК. Ты довольно осторожно обходишь разговор о своей – ну, профессиональной социализации.
ЛЬВОВСКИЙ. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь, – но тут мне хочется сказать, что не было никакой особенной профессиональной социализации. Я читал на публике – все читают стихи на публике – и сейчас читаю. В каком-то таком режиме, в основном на сборных вечерах. Наверное, были и мои отдельные, я не очень помню. То есть – в каком смысле социализация? Нет, я не ощущал себя частью большой литературы (слава богу) и до сих пор не (слава богу). Внутреннее ощущение при этом было «не своего» для как-нибудь определимых по способу письма страт (некорректное употребление термина, да, но понятно, наверное). Какая-то промежуточная история – не в смысле гордыни аутсайдера, с чего бы? – а просто не находишь себе клетки в наличной таксономии. Два человека из профессиональной среды всегда относились к тому, что я пишу, с сочувствием и интересом – Митя Кузьмин и Илья Кукулин.
ГОРАЛИК. Ты говоришь сейчас о своей отдельности – если говорить о школах и о пластах?
ЛЬВОВСКИЙ. Понимаешь, я не знаю насчет текстов, мне не видно, – и ничего особенно отдельного там, наверное, и нет. Это слабый такой разговор – кухонная социология, самоощущение, эти вещи.
ГОРАЛИК. Мой вопрос скорее про историю культуры, про невербализируемое «мы»; для многих ты, наверное, принадлежишь к такому «мы».
ЛЬВОВСКИЙ. Мне изнутри не видно. Я не знаю, к какому «мы» я принадлежу для гипотетического внешнего наблюдателя. Для меня есть некоторые «мы», но оно носит, скорее, поколенческий характер, не связанный с конкретными практиками. «Мы», связанное с практиками, – ну может быть, очень слабое и заведомо транспоколенческое, – но это обычное дело, так бывает. Идентификация с поколением – это про общий опыт переживания событий, который, может быть, на самом деле и не общий, но ты так о нем думаешь и остальные тоже, – а залезть к другому человеку в голову невозможно, можно только посмотреть, как индивидуальная память транслируется дальше. То «мы», которое о практиках письма, с поколенческим связано, мы выше об этом говорили, – но природа этой связи, ее устройство – не очень верифицируемы, хотя в какой-то степени да. В любом случае это не жесткая связь, не детерминирующая: в младшем или старшем поколении могут оказаться люди, так с тобой связанные, а в твоем их может не оказаться. Я описываю сейчас, конечно, просто модель.
ГОРАЛИК. Расскажи про это, если можно.
ЛЬВОВСКИЙ. Ну… вот, скажем, не поэзия per se, а говорение о ней. Мне в какой-то момент – отстоящий от нашего разговора не очень далеко, но достаточно – оказался ближе тот режим, в котором это происходит у младших товарищей. Это, конечно, моя проблема, а не чья-то еще. Положим, этот язык беднее тех индивидуальных, которые изобретаются старшими товарищами (в том же смысле, в каком изобретаются поэтические языки), – но он универсальнее. Вот сейчас, когда мы говорим, мне, во всяком случае применительно к поэзии, важнее стремление к универсальности языка рефлексии, чем задача конструирования бесконечно точной речи. Попытки эти, не пойми меня неправильно, очень плодотворны, или, во всяком случае, бывают очень плодотворны, – но мне кажется, что говорение о поэзии по-русски гораздо сильнее нуждается в размыкании собственного контура. Понятно, что это разные… ну, режимы мышления – и что хорошо бы все происходило одновременно. И в социокультурном смысле это система, наверное, многозадачная, но так многозадачная, знаешь… «Папа, а что такое многозадачность? – Сейчас, подожди, дискета доформатируется, покажу». То есть, да, все происходит одновременно, но на всем одновременно один человек – по крайней мере такой, как я, – сосредоточиться не в состоянии.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: