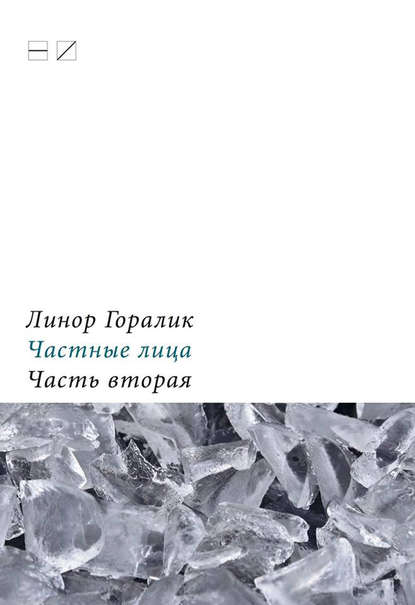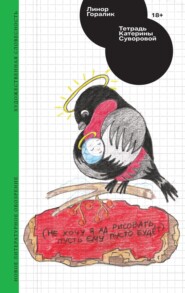По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ЛЬВОВСКИЙ. Черт знает. Решение принималось исходя из прежних сценариев: заниматься гуманитарными науками в СССР означало обрекать себя на очень существенную меру компромисса – если не идти на классическое отделение или еще куда-нибудь в этом роде.
ГОРАЛИК. За пределами советской власти.
ЛЬВОВСКИЙ. Ну да. А естественные науки – это был понятный сценарий, несколько инерционный, но было ясно, что, по крайней мере, ты будешь заниматься такими вещами, которые не требуют ежедневного насилия над собственной совестью, – ну, если химическое оружие не разрабатывать. Очень быстро выяснилось, конечно, что прежних сценариев больше не существует, – то есть быстро, где-то к середине-концу 1990 года. Хотя это был сложный год, политический откат, все дела. Я помню, как ходил на мартовскую демонстрацию, а по обочинам Садового (или Тверской?) стояли бэтээры.
В какой-то момент я начал рыпаться и подумал, не пойти ли мне все-таки куда-нибудь в другое место, тем более что на первом курсе было тяжело, но оказалось, что людям, не склонным к авантюрному поведению (это я), советская власть не предоставляет возможности передумать, потому что отсрочка от армии дается один раз, неважно, с потерей года ты переходишь, без или еще как-нибудь. Так я доучился на химфаке – хотя диплом мне пришлось писать по педагогике, такой, сто страниц машинописного текста. Были две возможности как-то избежать, собственно, химии – эта и история химии. Теперь я думаю, что, может быть, надо было как раз ею и заняться, толку от этого было бы, возможно, и больше, – но первый раз историей науки я заинтересовался примерно год назад, а в тогдашнем химфаковском исполнении это было, конечно, очень скучно, чистая фактология.
Но понимаешь, как. Во-первых, это было хорошее образование – в том смысле, что нас научили быстро перерабатывать большие объемы неструктурированной информации в небольшие объемы структурированной. Это и вообще важное умение, а с появлением поисковиков оно сильно повысилось в цене – хотя я с его помощью жил и до того, когда работал копирайтером, – эта работа, в общем, ровно так и устроена. При этом я много читал гуманитарной литературы, но беспорядочно – и некоторые лакуны до сих пор не ликвидированы. Какие-то заполняются, а до каких-то не доходят руки.
ГОРАЛИК. Твоя дочь родилась, когда ты учился, верно?
ЛЬВОВСКИЙ. Когда мне было 20, ага.
ГОРАЛИК. Как вообще была устроена твоя жизнь, твоя повседневность в это время?
ЛЬВОВСКИЙ. Ну как может быть устроена повседневность у 20-летнего отца маленькой дочери, которая болеет стафилококком? При том что отец этот самый учится и еще пытается подрабатывать? Учитывая, что Маша родилась в феврале 1992 года.
ГОРАЛИК. Это времена, когда в магазинах вообще ничего не было?
ЛЬВОВСКИЙ. Все как раз примерно в этот момент появилось – потому что 1 января 1992 отпустили цены. А вот пока цены не отпустили… Когда жена моя была беременна, я, например, дрался в магазине за творог – а я вообще, нет, не дерусь, не очень умею. Ну и – мало ли чего не было, стиральной машины вот не было, например. Но когда тебе двадцать, это все тоже как-то… Вроде, с одной стороны, трудно, а с другой – ребенок, интересно же, здорово и вообще. Но да, как-то я еду в автобусе – а жили мы тогда в Дегунино, это такое совсем глуховатое место, неподалеку от Лианозова. Ближе всего было добираться электричкой с Савеловского вокзала, метро там нет – ну или от Петровско-Разумовской автобусом. И вот, значит, я еду в этом автобусе где-то между домом и Петровско-Разумовской. А дело происходит зимой, видимо, в январе 1993-го. За окнами темно – и я вдруг понимаю, что не понимаю, куда еду, – и какое вообще время суток. То ли это я еду из дома в университет и еще темно – а то ли уже темно и я возвращаюсь домой.
Подрабатывал я при этом репетиторством, были у меня на попечении три девочки в одном доме, почти ровно на другом конце города, на Красногвардейской, почти два часа добираться. Я туда приезжал и занимался с каждой по часу.
ГОРАЛИК. Каким предметом?
ЛЬВОВСКИЙ. Английским. Готовить к вступительным экзаменам я бы, наверное, не рискнул – а вот школьникам подтягивать язык – это OK. Папы девочек были заняты зарабатыванием денег, а мамы – по-разному, одна, к примеру, была медсестрой, работала сутки через трое. С ними было много удивительных историй. Одна девочка была совсем маленькая, шести лет, я до сих пор не очень понимаю, как их заинтересовать языком в таком возрасте; вторая знала, что ей скоро уезжать в Штаты (родители были в процессе подачи документов), и старалась; третья тоже не понимала, за что ей такая мука, – но, в отличие от младшей, у нее уже было представление о том, как следует обращаться с мужчинами. Как-то я выговариваю ей – со всей возможной мягкостью – за несделанное то и се, она сидит, слушает меня, немного склоняясь над тетрадкой, потупив, я бы даже сказал, взор, – и тут я вижу, что на разлинованный тетрадный лист медленно падает очень крупная слеза. И расплывается. Потом вторая. Женские слезы я тогда переносил плохо (да и сейчас не очень), так что воспитательную беседу пришлось быстро закруглить.
В качестве отступления небольшая зарисовка о том, как тогда все было. Мама этой девочки, кажется, не работала, сидела дома, – и вот, как-то я прихожу, а она, мама, открывает дверь с большим таким феном наперевес. Ну, думаю, ладно, – мы здороваемся, я раздеваюсь, – она говорит, что, мол, вы извините, у меня тут процесс. Идет в кухню, к холодильнику, открывает его и начинает в него, значит, феном дуть. Я из коридора смотрю на это – и не очень понимаю, все ли с ней в порядке. В общем, она, оказывается, в каком-то голливудском кино увидела новый, прогрессивный способ размораживать холодильник – и выяснилось, что да, действительно! Размораживается! Быстро! Я до сих пор думаю, вспоминая эту историю, о том, как много всего происходившего в 1990-е примерно так и происходило: увидели в кино, решили попробовать – и оно да, работает! Размораживает!
Тогда же я преподавал в школе химию и тот же английский. Школа была частная, одна из первых, небольшая. Директор ее не брал на работу никого, кто имел опыт преподавания в советской школе, – штат состоял из студентов и вчерашних выпускников Педагогического института. А родители по тем временам считали, что если уж школа частная, то, значит, вот вам ребенок, вот вам деньги, сделайте что-нибудь. Дети то есть были по большей части немного такие, брошенные, – и от нас с коллегами, людей тогда очень молодых, требовалось, конечно, гораздо больше, чем просто их учить. Был у меня, например, в классе мальчик, который просто боялся сказать хоть что-нибудь, все равно что, не мог ответить ни на один вопрос – до настоящей паники. Профессиональных педагогов все-таки учат справляться с такими ситуациями, а если не удается справиться – отстраняться. Мне, необученному, довольно быстро стало тяжело – а потом я понял, что тут надо либо лечь на алтарь, либо перестать этим заниматься, потому что, ну, – иначе это, не знаю, нечестно, наверное, – я не был готов, в общем.
Преподавать мне нравилось и нравится, я, кажется, не совсем плохо это делаю; платили по тем временам тоже симпатично, – но быть этим детям тем, кем они хотели, чтобы мы все им были, я никак тогда не мог. Администрация даже завела в школе штатного психолога, что в 1994 году, надо сказать, было совершенно неочевидным делом, – но и это не слишком помогало. В общем, с этого поля боя я благополучно дезертировал.
Дезертировал, получив, впрочем, хороший, довольно интенсивный опыт преподавания – что-то у меня было около 25 часов в неделю – и отчетливое понимание, что школьным учителем мне, видимо, не быть.
ГОРАЛИК. Правильно ли мне кажется, что к этому же периоду времени относится разговор про церковь?
ЛЬВОВСКИЙ. Ну почему нет… На нашем курсе на химфаке училась такая девочка Настя. И она же училась с моей бывшей женой тогдашней на подготовительных курсах на химфак. Настя была (и я полагаю, что остается) духовным чадом протоиерея Владимира Волгина, он довольно известный персонаж, сейчас он окормляет чуть ли не супругов Медведевых. С ним вообще, видимо, непростая история, поскольку он был духовным чадом о. Иоанна (Крестьянкина), старца из Псково-Печерской лавры, – точно так же как и о. Тихон (Шевкунов). Старчество – такой сложный неформальный институт внутри современного русского православия, долго рассказывать, – и о. Иоанн (Крестьянкин) был в нем, вероятно, самой заметной фигурой: не исключено, что его со временем канонизируют. Другой известный старец, о. Кирилл (Павлов) в Сергиевом Посаде, кажется, еще жив, он был духовным отцом Алексия Первого, Пимена и Алексия Второго, – есть люди, которые считают, что «Дом Павлова» в Сталинграде, кто помнит, – это он (но нет, не он).
Священник, с которым меня познакомили, о. Георгий, был, с одной стороны, духовным чадом о. Владимира, а с другой – происходил из известной семьи ученых биологов, был сыном известного советского биохимика Александра Нейфаха. Сам он тоже имел степень кандидата физико-математических наук, диссертацию защищал, как я понимаю, по биофизике – и, как я понимаю, в аспирантуре он учился вместе с теперь уже тоже покойным Кахой Бендукидзе. Как священник о. Георгий, несмотря на некоторое умеренно диссидентское прошлое, был очень далек от традиции, условно говоря, «парижан», то есть от, как бы сказать, либерального направления в православии, – но был при этом человеком большого обаяния, широких взглядов, очень ясно мыслившим и в целом очень светлым. Я не был на его похоронах – он умер в 2005 году – и некоторое чувство вины по этому поводу и сейчас со мной. Я ему многим обязан.
Вообще же, я в тот момент, как и все люди двадцати лет, интересовался ответами на главные вопросы жизни, вселенной и всего такого.
ГОРАЛИК. На все.
ЛЬВОВСКИЙ. Конечно, на все – а как? На некоторые, что ли?
Жили они с матушкой и дочерью Катей, подругой моей бывшей жены, в городе Курчатове, под Курском, на берегу Курчатовского моря. Курчатовское море представляло собой внешний контур охлаждения тамошней атомной электростанции – по-моему, такого же типа, как Чернобыльская или сразу следующего за ней поколения. Под Курском, немного еще на юго-запад – там и так абрикосы вызревают, а в сочетании с теплым Курчатовским морем, которое, по понятным причинам, не замерзало до ноября (и до октября включительно там можно было купаться), место это производило впечатление небольшого приморского курортного городка. Жили они с матушкой очень скромно, в небольшой двухкомнатной квартире, в которой к тому же всегда были какие-то люди – и вроде нас, и не вроде нас.
Мой роман с православием продолжался, таким образом, года два, наверное, – потом начал сходить на нет, еще чуть позже случился развод – и история эта закончилась. В основном я не мог тогда смириться с отсутствием рациональных ответов на рациональные вопросы, которые заменяются обещанием получить на все свои вопросы ответы когда-нибудь – по благодати, – а пока ответы не поступили, следует укрепляться в вере. Впрочем, мне кажется, что это сравнительно близкое знакомство с русским православием было мне, при всех внутренних сложностях, чрезвычайно полезно.
Во-первых, за это время я успел прочесть некоторое, довольно заметное количество святоотеческой литературы – в диапазоне примерно от Ефрема Сирина и Иоанна Дамаскина до, не знаю, святителя Игнатия Брянчанинова. Это прекрасное чтение, из которого к тому же для меня тогда стали понятны неожиданные вещи – вроде того, что точное знание исторически обусловлено. Ну, как, например, священномученик Климент, если не ошибаюсь, пишет, что, мол, как же вы говорите, что не может быть воскресения из мертвых, когда науке известна такая птица феникс, которая, etc. Вообще, это важный корпус текстов, который – по крайней мере местами – является к тому же, в общем, высокой поэзией.
Во-вторых, я приобрел не то чтобы прям глубокое, нет, конечно, – но и не совсем поверхностное представление (и это тут не случайное слово, я имею в виду скорее образ, ощущение, а не знание) о том, как это изнутри. А оно, видимо, необходимо или по крайней мере полезно всякому, кто пытается понять, почему в этой части мира живут так, как живут.
В-третьих, я увидел – краем глаза, но тем не менее, – совершенно другой строй жизни, сосуществовавший с тем, к которому принадлежал я. Ну, вот, огромный дом в Воронежской области, на пологом берегу реки, в котором живет монах в миру со своими двумя дочерьми, – и в доме висят по стенам какие-то фотографии его – с Башметом, с кем-то еще, – он бывший альтист. И все окружающее пространство преобразовано им в такой, что ли, локус квазитрадиционалистской утопии, где последние примерно сто лет (на тот момент) русской истории просто отменены, их не было. Речь совсем не о сектантстве – а скорее о конструировании прошлого примерно из ничего. Мне тогда стало понятно, как велика трансформирующая сила такого конструирования – и как велико может быть обаяние результата. Результат этот невозможно масштабировать – но если ты живешь внутри такого пространства, ты этого, разумеется, не видишь. А внутри уже и тогда жило огромное множество людей – и я не думаю, что количество их уменьшилось. Кроме того, оказавшись в этой точке, городской человек, всю жизнь проведший более или менее в одном кругу – в социальном смысле, – видит, что одновременно с его миром сосуществует по крайней мере еще один, ничем на его мир не похожий, – и думает: а сколько их, этих миров, вообще? Параллельные вселенные, другие измерения. В социальном, конечно, не в физическом смысле, – ну так и что, можно подумать, это менее интересно?
ГОРАЛИК. Вот кроме интеллектуального опыта что это все значило для тебя?
ЛЬВОВСКИЙ. Я действительно искал там ответов на свои вопросы – и не нашел.
ГОРАЛИК. То есть ты полностью присутствовал в этом?
ЛЬВОВСКИЙ. Да, полностью. В итоге у меня осталось впечатление, что русское православие требует герменевтического, что ли, подхода, – потому что оно, конечно, очень автаркично, оно сознательно не хочет открываться, предпочитает, чтобы люди получали его as is и съедали как порошок в капсуле. На это есть исторические и канонические причины, их можно было бы перечислить, но да, в общих чертах так.
ГОРАЛИК. Как облатка, от которой мы отказались. Съедать, не раскусывая.
ЛЬВОВСКИЙ. Примерно. И это некоторым образом жаль, потому что устроено оно очень любопытно, довольно сложно и, как я уже сказал, в смысле текстов часто невероятно поэтично, местами до изумительного. Я понимаю, как это все сейчас звучит – на фоне того, что происходит с церковью как с общественной корпорацией, на фоне о. Чаплина и прочих злобных клоунов во вкусе Стивена Кинга, – но когда они все отправятся в заслуженное путешествие по канализационным трубам, придется же как-то разбираться в этой амбивалентности, они же не на пустом месте явились.
ГОРАЛИК. Ну множество людей нашего круга цитируют Библию, так ее и не прочитав никогда.
ЛЬВОВСКИЙ. В современной ситуации многие думающие люди считают для себя, в общем, оскорбительным интересоваться чем-нибудь в этом роде – и нельзя не признать, что на то у них есть определенные причины.
В общем, так или иначе, я понял тогда, что куда бы ты ни пошел, в какую бы область ни направился, очень может оказаться, что она совсем другая, нежели ты себе представлял. Совсем рядом – внезапно – поразительно много интересного и неожиданного.
ГОРАЛИК. Кроме ребенка, учебы и церкви – что происходило? В частности, с твоими текстами?
ЛЬВОВСКИЙ. Я в это время писал книжку, которая называется «Белый шум», – она вышла, кажется, в 1996-м. Одновременно я довольно интенсивно читал русскую неподцензурную поэзию – с серебряным веком уже к тому временем как-то в первом приближении разобрались, остались маргиналии (которых, в общем, может хватить вдумчивому человеку не на один год), – и хаотически, как всегда у нас, издававшуюся переводную. По текстам книги видно (ну или не видно, а я могу восстановить) влияние, в первую очередь, этих переводных текстов – и Айги, я тогда продолжал читать его книгу, вышедшую в 1992-м, кажется, – «Теперь всегда снега». С Айги я встретился раньше, чем со многими другими авторами, – и эту линию, не знаю, модернистскую, наверное, хотя это слово совсем уже ничего не означает, – в значительной степени воспринял, по крайней мере в части текстов, написанных по-русски, именно его посредством, а не посредством, скажем, Драгомощенко (нет, я отчетливо понимаю разницу, просто пытаюсь восстановить тогдашнюю свою оптику). Можно даже пытаться формулировать, почему это важно, – но не сейчас и не здесь, наверное. Специально я об этом не думал, а так на ходу не хочется. Он для меня так и остался важной, в каком-то смысле, ключевой фигурой, до сих пор.
Про книжку, да. Она на самом деле довольно объемная (просто набрана седьмым кеглем, по три текста на странице) – и представляет собой ощутимый корпус текстов, написанных… наверное, где-то с 1988-го по 1996-й. То есть, конечно, написано было гораздо больше, два раза по столько, слава богу, выброшено. С тех пор как-то так и получается, что книги выходят, мне кажется, слишком большие – но зато сравнительно редко. Хотелось бы, в принципе, часто издавать книжки из двадцати текстов – но кто же это станет… Появление ее само по себе было очень важным событием – но я не помню, чтобы совсем экстраординарным. Все-таки легитимация здесь обеспечивалась нами же. И Митино издательство, которое сделало для русской словесности невероятно много (я не о себе), и фестивали, и все прочее были чем-то вроде очень сильного, длящегося, как теперь говорят, учреждающего жеста – или, словами Сатуновского, – «главное иметь нахальство знать, что это стихи».
Моя книга была по счету третья или четвертая, что-то такое. По крайней мере, я точно помню, что к тому времени Митя успел издать «Спинку пьющего из лужи» Звягинцева и «Расу брезгливых» Барсковой. Обложку я делал сам, только человечков нарисовал Олег Пащенко, – я уже просто к тому времени уже сколько-то работал в рекламном агентстве, где научился обращаться с тем, что тогда заменяло графический софт.
ГОРАЛИК. Давай вернемся немножко назад опять – скажем, год в 1993-й.
ЛЬВОВСКИЙ. В 1993-м я, собственно, начал преподавать. В 1993-м был путч, это отдельная история. В 1993 году я ушел из семьи. Все это было, конечно, очень плохо и тяжело – но, с другой стороны, и мне и бывшей моей супруге было все-таки очень мало лет, когда мы затевались. После я довольно долго жил в разных неприспособленных для этого местах, в ГЗ МГУ например. Сначала у близкого тогда друга, потом – у однокурсника из Восточной Германии, который к тому времени успел переехать к своей московской девушке. Иностранцев селили в комнатах по одному – и в них оставалась в довольно большой сохранности обстановка начала 1950-х – то есть не только дубовая мебель, которая тогда еще везде там была, а и зеленые лампы, например: Ленин в Шушенском, вот это вот все.
Потом я некоторое время жил в профилактории, который представлял собой удивительный рудимент советских практик. То есть можно было прийти к какому-нибудь врачу в университетской поликлинике, сказать, что с тобой не так, и без больших проблем получить возможность в этом профилактории месяц жить. Я пришел к психотерапевту, честно сказал, что развелся с женой, и попросил путевку в профилакторий. Чрезвычайно мрачный психотерапевт посмотрел на меня очень, очень мрачно и сказал: «Развелся с женой, ушел к другой, живи у другой, зачем тебе профилакторий?» «Все очень сложно», – сказал я. «Ну, сложно, так сложно», – сказал психотерапевт и выдал мне направление. Там, во-первых, можно было жить, а во-вторых, там еще и кормили, довольно хорошо, особенно по тем временам.
Потом уже я снимал обычную комнату, половину блока в главном здании – за 25 долларов у студкома. В 1993-м это было не то чтобы совсем мало, но мало, зарабатывал я уже существенно больше, – хотя диета состояла в основном из быстрорастворимой лапши типа «Доширака» – помимо прочего, потому что кухня на этаже была… в общем, там не было окон (а зима же) – и конфорок на газовой плите тоже не было, а вырывавшихся из нее метровых факелов я несколько побаивался. В целом это было очень OK, к бытовым условиям я не слишком чувствителен даже и сейчас, а уж тогда и вовсе ничего такого не замечал. Тем более при входе в соответствующую часть здания имелся киоск, который держали иностранные студенты, я не вспомню кто, – находившийся в полном согласии с тогдашним Zeitgeist, – так что там можно было даже при некоторой настойчивости иногда вырубить травы.
Несколько лет назад я там оказался, в ГЗ, по делу, впервые за много лет, – и там, да, не все, но многое изменилось. Кроме запаха – и это было сильное впечатление, р-раз – и ты уже снова там, в 1993-м, печенье «Мадлен». ГЗ вообще довольно специальное место, с удивительной топологией, – например, там несколько уровней, заблудиться в которых ничего не стоит, – не говоря уже о богатой, прямо скажем, мифологии здания: все эти бесконечные рассказы про двадцать этажей под землей; про выход к предназначавшейся для эвакуации правительственной ветке метро; про запас прочности, заложенный при строительстве, такой, чтобы если над ГЗ взорвать атомную бомбу той же мощности, что Little Boy, 14 этажей по крайней мере должно было уцелеть (зачем?), – и так далее. Последнее, может, и правда, стены там невероятно толстые, если сейчас к ГЗ подойти, то видно провода, переброшенные в общежитиях из комнаты в комнату по внешним стенам, – Wi-Fi при такой толщине стен, видимо, не работает.
ГОРАЛИК. Что с твоими текстами происходило в этот момент (я стараюсь, прости, не упустить и эту линию)?
ЛЬВОВСКИЙ. Я продолжал писать – и реальность за пределами моего собственного мира в этих тестах если и отражалась, то как-то опосредованно, – поскольку моя личная жизнь была в этот момент чересчур, я бы сказал, насыщенна и увлекательна. Впрочем, жизнь вокруг тоже была насыщенна и увлекательна – но в это время жизни своя рубашка ближе к телу.
ГОРАЛИК. Тебя же это все вполне интересовало, что вокруг?