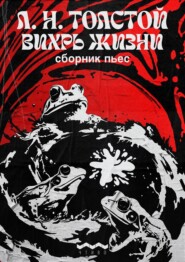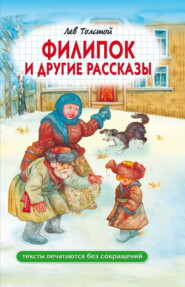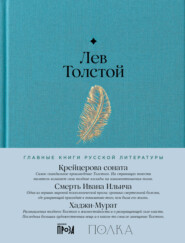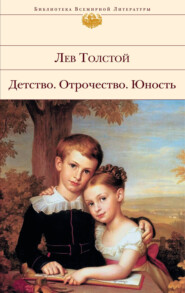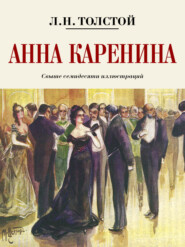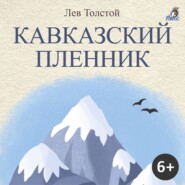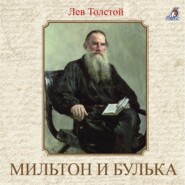По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 20. Варианты к «Анне Карениной»
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да потомъ, сд?лай милость, скажи, разв? ты не понимаешь исторической судьбы Русскаго народа, разв? ты не видишь, что это только дальн?йшее шествiе его по пути къ своимъ судьбамъ? И разв? ты не видишь въ этомъ внезапномъ подъем? чувства народнаго признакъ?
– Вопервыхъ, я не вижу. И потомъ, что за посп?шность, почему эти судьбы должны совершаться въ нын?шнемъ году непрем?нно? Они совершатся. Богъ найдетъ эти пути и приведетъ народъ.
– Да вотъ онъ и ведетъ.
– Н?тъ, не онъ, а гордость, посп?шность. Объявленiе войны.
– Да этакъ вы велите сид?ть сложа руки и ждать судьбы, – сказалъ Котовасовъ. – Это Турки д?лаютъ и досид?лись.
– Н?тъ, зач?мъ ждать сложа руки. А личная д?ятельность? У каждаго есть свое опред?ленное д?ло.
– Какое же?
– А то, чтобы жить по правд?, для Бога, спасать душу, – сказалъ Левинъ.[1845 - На полях против этих слов написано: Православ[iе] противъ катол[ицизма]]
– Да если кто идетъ теперь пострадать за правое д?ло – не спасаетъ душу? – сказалъ Серг?й Ивановичъ.
– Онъ идетъ не страдать, а убивать.
– «Я не миръ, а мечъ принесъ», говоритъ Христосъ.
Они уже давно дошли до пчельника и, боясь пчелъ, зашли за т?нь избы и сид?ли на вынесенныхъ старикомъ обрубкахъ. Спокойствiе Левина уже совс?мъ изчезло. Высказавъ въ спор? свою задушевную, новую мысль, онъ теперь, прислушавшись къ тому, что д?лалось у него въ душ?, уже далеко не нашелъ въ ней прежняго спокойствiя. Несмотря на то, что вызванный вопросомъ Дарьи Александровны о томъ, далъ ли онъ въ церкви денегъ на Сербскую войну, старикъ пчельникъ подтвердилъ мысль Левина, сказавъ: «какъ же не дать, на Божье д?ло», Левинъ чувствовалъ, что въ душ? его теперь опять все см?шалось. Не прошло полчаса, какъ, продолжая разговоръ, онъ уже сц?пился съ Котовасовымъ спорить о философскихъ предметахъ и доказывалъ уже ему (лишая ея этимъ для себя всякой уб?дительности) самую дорогую свою мысль о томъ, что, думая матерiалистически, надо думать только до конца, и тогда придешь къ гораздо худшей безсмыслиц?, ч?мъ религiозныя в?рованiя.[1846 - На полях против этих слов написано: Меду съ огурцами д?ямъ.] Матерiя, сила – все ничто, и н?тъ конечнаго смысла. Мысль эта, казавшаяся ему столь поб?дительною, даже ни на минуту не остановила вниманiя Котовасова.
– Да зач?мъ же мн? думать? – сказалъ онъ совершенно искренно, спокойно (это вид?лъ Левинъ).
– Мн? нужны формы, въ которыхъ я могу мыслить, и такiя формы – матерiя, силы, организмъ, а что это само по себ? – мн? и д?ла [н?тъ].
– Какъ, вамъ и д?ла н?тъ, что будетъ съ вашей душой?
– Вотъ уже никакого, – см?ясь сказалъ Котовасовъ, и это было такъ искренно, что посл? этаго и говорить нечего было.
Левинъ почувствовалъ изчезнувшимъ все строившееся и былъ почти въ отчаянiи. Котовасовъ былъ очень веселъ.
– Будетъ, будетъ дождикъ, Дарья Александровна.
Д?йствительно, стало хмуриться, и вс? пошли скор?й домой. У самаго дома уже было совс?мъ темно отъ страшной черной и потомъ б?лой тучи. Кити не было дома.[1847 - Зачеркнуто: и Мити тоже не было.] На душ? у Левина было также мрачно теперь, какъ и на неб?. Онъ, оставивъ гостей, поб?жалъ на гумно. Ему сказали, что она прошла по другой дорог?. Онъ поб?жалъ, и вдругъ его осл?пило, и треснулъ сводъ небесъ, и ударило въ дубъ, и пошелъ сплошной дождь, въ туже секунду измочившiй его до т?ла. Исполненный ужаса, онъ поб?жалъ въ Колокъ, и, подумавъ о томъ, что было съ Кити и ребенкомъ, онъ прямо опять сталъ молиться. Несмотря на волненiе, онъ спрашивалъ себя, кому онъ молится, и зналъ и опять чувствовалъ близость его.
Это была короткая туча. Ужъ проясняло, и виденъ былъ св?жiй и черный осколокъ разбитаго дуба и дымъ. Недалеко подъ другимъ онъ увидалъ двухъ мокрыхъ съ облипшими платьями женщинъ, нагнутыхъ надъ тел?жечкой съ зеленымъ зонтикомъ. У няни подолъ былъ сухъ, но Кити была вся мокра. Когда онъ подб?галъ къ нимъ, шлепая сбивавшимися по неубравшейся вод? ботинками, она оглянулась на него мокрая, съ шляпой, изм?нившей форму, и улыбалась. Митя былъ ц?лъ и даже сухъ.
Въ продолженiи всего дня Константинъ Левинъ ужъ ни разу не спорилъ. И за разговорами и суетой онъ радостно слышалъ полноту своего сердца, но боялся и спрашивать его. Онъ чувствовалъ одно: возможность удерживать свой умъ, не направлять его на то, на что не нужно, и удерживалъ его.
Вечеромъ, когда онъ остался одинъ съ женой, онъ началъ было ей разсказывать свое религiозное чувство, но, зам?тивъ ея холодность, тотчасъ же остановился. Но когда Кити, какъ всегда передъ сномъ, ушла кормить въ д?тскую и онъ остался одинъ, онъ сталъ думать: «Молитва исполнена? Чудо? Н?тъ. Зач?мъ такъ грубо. Силы, природа, и той мы приписываемъ самые простые пути (экономiю силъ природы), а Богъ – онъ изм?няетъ мое сердце, молитва сама изм?няетъ и возд?йствуетъ». И ц?лый рядъ мыслей еще съ большей силой, ч?мъ утромъ, поднялся въ его душ?.
Къ двери подошли шаги женскiе, но не женины. Это была няня.
– Пожалуйте къ барын?.
– Что, не случилось что нибудь?
– Н?тъ, они радуются и вамъ показать хотятъ. Узнаютъ.
Д?йствительно, придя въ д?тскую, Левинъ уб?дился, что ребенокъ уже узнавалъ. Кити сiяла счастьемъ. Левинъ радовался зa нее, и весело ему было смотр?ть на то, какъ ребенокъ улыбался, см?ялся, увидавъ мать. Но главное чувство, которое онъ испытывалъ при этомъ, было тоже, которое становилось у него всегда на м?сто ожидаемой имъ любви къ сыну, – чувство большей плоскости, уязвимости и тяжести и трудности предстоящаго. «Сербы! говорятъ они. Нетолько Сербы, но въ своемъ крошечномъ кругу жить не хорошо, а только не дурно. Это такое [счастье], на которое не могу над?яться одинъ, а только съ помощью Бога, котораго я начинаю знать», подумалъ онъ.
Конецъ.
* № 201 (кор. № 125).
Левинъ покрасн?лъ отъ досады не за то, что онъ былъ разбитъ, а за то, что онъ не удержался и сталъ спорить. Онъ чувствовалъ, что братъ его нетолько раздраженъ, но озлобленъ на него, какъ челов?къ, у котораго отнимаютъ его посл?днее достоянiе, и вид?лъ, что уб?дить его нельзя, и еще мен?е вид?лъ возможность самому согласиться съ нимъ. Д?ло тутъ шло о слишкомъ важномъ для него. Все его воззр?нiе на жизнь зиждилось теперь на томъ, чтобы жить для Бога – по правд?, т. е. управлять т?мъ не перестающимъ въ живомъ челов?к? и не зависимымъ отъ него рядомъ желанiй, чувствъ, страстей, изъ которыхъ слагается вся жизнь, такъ, чтобы выбирать то, что добро. А по понятiямъ брата добро можно было опред?лить. Было р?шено разумомъ, что защитить Болгаръ было добро, и потому война и убiйство уже не считалось зломъ, а оправдывалось.
То, что они пропов?дывали, была та самая гордость и мошенничество ума, которыя чуть не погубили его. Въ посл?днее свиданiе свое съ Серг?емъ Ивановичемъ у Левина былъ съ нимъ споръ о большомъ политическомъ д?л? русскихъ заговорщиковъ. Серг?й Ивановичъ безжалостно нападалъ на нихъ, не признавая за ними ничего хорошаго. Теперь Левину хот?лось сказать: за что же ты осуждаешь коммунистовъ и соцiалистовъ? Разв? они не укажутъ злоупотребленiй больше и хуже болгарской р?зни? Разв? они и вс? люди, работавшiе въ ихъ направленiи, не обставятъ свою д?ятельность доводами бол?е широкими и разумными, ч?мъ сербская война, и почему же они не скажутъ того же, что ты, что это, нав?рное, предлогъ, который не можетъ быть несправедливъ. У васъ теперь угнетенiе славянъ, и у нихъ угнетенiе половины рода челов?ческаго. И если общественное мн?нiе – непогр?шимый судья, то[1848 - Зачеркнуто: едва ли не будетъ больше голосовъ въ ихъ пользу, ч?мъ въ вашу, если также муссировать д?ло, какъ вы.] оно часто склонялось и въ эту сторону и завтра можетъ заговорить въ ихъ пользу. И какъ позволять себ? по словамъ десятка краснобаевъ добровольцевъ, которые пришли къ нимъ въ Москв?, быть истолкователями воли Михайлыча и всего народа?
* № 202 (кор. № 123).
Въ продолженiе всего дня Левинъ за разговорами и суетой продолжалъ радостно слышать полноту своего сердца, но боялся спрашивать его.
Вечеромъ, когда онъ остался одинъ съ женой, только на одну минуту ему пришло сомн?нiе о томъ, не сказать ли ей то, что онъ пережилъ нын?шнiй день; но тотчасъ же онъ раздумалъ. Это была тайна, для одной его души важная и нужная и невыразимая словами.
– Вотъ именно Богъ спасъ, – сказала она ему про ударъ въ дуб?.
– Да, – сказалъ онъ, – я очень испугался.
Онъ еще былъ одинъ у себя въ кабинет?, когда къ двери подошли шаги женскiе, но не женины. Это была няня.
– Пожалуйте къ барын?.
– Что, не случилось ли что-нибудь?
– Н?тъ, он? показать вамъ хотятъ объ Митеньк?.
Кити звала его, чтобы показать ему, что ребенокъ уже узнавалъ. Кити сiяла счастьемъ. Левинъ радовался за нее, и весело ему было смотр?ть на то, какъ ребенокъ улыбался и см?ялся, увидя мать; но главное чувство, которое онъ испытывалъ при этомъ, было то же, которое становилось у него всегда на м?сто ожидаемой имъ любви, – чувство страха за него и за себя. Но не было никакой поразительности, никакой сладости, ничего того, что въ молодости считается признакомъ сильнаго чувства, а тихо, незам?тно, то онъ и самъ не зналъ, когда ему въ сердце [вошло] это новое чувство и уже неискоренимо зас?ло въ немъ.
Оставшись опять одинъ, когда она, какъ всегда передъ сномъ, ушла кормить въ д?тскую, онъ сталъ вспоминать главную радость нын?шняго дня. Онъ не вспоминалъ теперь, какъ бывало прежде, всего хода мысли (это не нужно было ему), но чувство, которое руководило имъ, чувство это было въ немъ еще сильн?е, ч?мъ прежде.
«Новаго ничего н?тъ во мн?, есть только порядокъ. Я знаю, къ кому мн? приб?гнуть, когда я слабъ, я знаю, что ясн?е т?хъ объясненiй, которыя даетъ церковь, я не найду, и эти объясненiя вполн? удовлетворяютъ меня. Но радости новой, сюрприза никакого н?тъ и не можетъ быть и не будетъ, какъ и при каждомъ настоящемъ чувствъ, какъ и при чувств? къ сыну».
Графъ Левъ Толстой.
КОММЕНТАРИИ
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ «АННЫ КАРЕНИНОЙ».
I.
В тетради «Мои записи разные для справок» С. А. Толстая под 24 февраля 1870 г. отметила зарождение замысла «Анны Карениной»: «Вчера вечером он [Толстой] мне сказал, – записывает она, – что ему представился тип женщины замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины».[1849 - Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891. Редакция С. Л. Толстого. Примечания С. Л. Толстого и Г. А. Волкова. Предисловие М. А. Цявловского. Издание М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 32.]
Но к реализации своего замысла Толстой приступил лишь через три года. А тогда Толстого заинтересовала эпоха Петра I, из истории которой он начал писать роман (первый набросок этого романа был написан на следующий день после того, как Толстой поделился с женой мыслью о сюжете будущей «Анны Карениной» – 24 февраля 1870 г.), затем он усиленно стал заниматься греческим языком, работой над «Азбукой», педагогической работой в Ясной поляне и вновь романом из эпохи Петра I. Этот роман, для которого, по свидетельству С. А. Толстой, было написано десять начал, подвигался вперед однако очень туго. В письмах к Страхову и Фету от первой половины марта 1873 года Толстой жалуется на то, что работа его над этим романом «не двигается». И вот, 19 или 20 марта 1873 г. С. А. Толстая пишет своей сестре Т. А. Кузминской: «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа – неверная жена и вся драма, происшедшая от этого» (Архив Т. А. Кузминской в Госуд. Толстовском музее). Тогда же, 19 марта, Софья Андреевна записывает в своей тетради: «Вчера вечером Левочка мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка, и, кажется, хорошо»… Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой».[1850 - Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, стр. 35—36.]
Литературная манера, в которой был начат роман, традиционно связывается с чтением в ту пору Толстым пятого тома сочинений Пушкина в издании Анненкова, где были помещены «Повести Белкина» и отрывки и наброски незаконченных повестей. В цитированной записи 19 марта относительно начала работы над «Анной Карениной» С. А. Толстая пишет: «И странно он на это напал. Сережа[1851 - Старший сын Толстых.] все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись итти вниз отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Л[евочка] взял эту книгу и стал перелистывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». Потом он перечитывал мне вслух о старине, как помещики жили и ездили по дорогам, и тут ему объяснился во многом быт дворян во времена и Петра Великого, что особенно его мучило; но вечером он читал разные отрывки и под впечатлением Пушкина стал писать».[1852 - Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860—1891, стр. 35—36.]