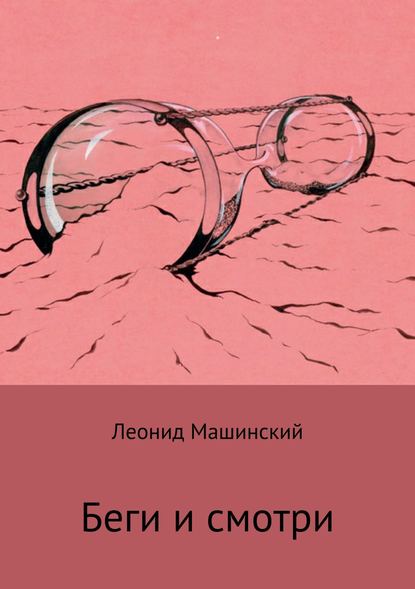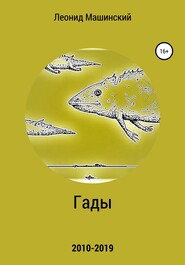По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беги и смотри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этот ответ в виде вопроса поставил его в тупик.
– Ладно. И всё-таки это очень интересно, – резюмировал он. – Я конечно не специалист по людям, не этнограф. Можно предположить, что здесь обитает какое-то племя. Или что это одинокие пастухи. Но где же скот?
– Нет никакого скота, – перебила его рассуждения дочь.
– Они что, вегетарианцы? – спросил он.
Дочь помолчала, видимо, вспоминая кто такие вегетарианцы.
– Да нет, насекомых они едят, – ответила она.
– Значит они всё же что-то едят – и то слава Богу! – выдохнул отец.
– А ты думал – они духи?
– Чем чёрт не шутит?! – ухмыльнулся он.
– Свят! Свят! Свят! – кокетливо открестилась дочка.
Оказалось, что больше говорить не о чем.
– Ладно, – сказал отец, чтобы что-нибудь сказать, – я тут всё-таки попробую кое-чем подзаняться, а ты…
– Отпускаешь?
– А что мне ещё остаётся?
– Рация – вот, – показала она.
Дочь пропала из виду, а он прилёг тут же, в домике, ненадолго и неожиданно для самого себя уснул – сказалось бессонное и тревожное утро.
Когда он проснулся, дочка опять была рядом с ним.
– Сегодня ночью не пойдёшь? – спросил он с надеждой.
– У-у, – помотала она головой.
– А они что, не спят?
– Кто? А… Почему? Спят.
– Но почему ты к ним ночью-то ходила?
– Мы так договорились.
– Очень понятно. О чём вы договорились-то?
– Это наша тайна.
– Ах, вот как? – отец, до того продолжавший нежиться на койке, раздражённо присел.
– Ну, может же быть у детей маленькая тайна? – дочь смотрела на него совершенно чистыми голубыми глазами.
Ему нечего было возразить. Хотя он так и не сумел для себя придумать – чем таким могли бы они заниматься там ночью. Разве что – животных каких-нибудь ночных ловили – но она даже фонаря с собой, кажется, не брала. Всё лезли в голову какие-то бредни сексуального характера, но он с ожесточением отмахивался от них – до того грязным и неестественным представлялось всё, что он мог вообразить, рядом с непорочным образом его девочки. Тогда что? Этот вопрос мучил его неотступно. Червь сомнения – не из тех червей, которые насыщаются легко и быстро.
Так и пошли у них дни за днями. Дочь куда-то исчезала – иногда ненадолго, иногда больше, чем не полдня. Однажды он ещё раз обнаружил её отсутствие ночью. При всей доверительности отношений между ними, его не покидало щекочущее желание – которого он сам стыдился как слабости – как-нибудь всё-таки выследить её и убедиться своими глазами во всём, что она ему рассказывала. Один раз он уже попробовал сделать это, но дочка его заметила, когда оба они не отошли ещё и километра от лагеря, и тут же вежливо, но твёрдо попросила не вмешиваться в её личную жизнь.
– Ты можешь всё испортить, – сказала она. Так и сказала. – Не надо пожалуйста этого делать, папа. Я ведь жива, здорова. Если тебя волнует моя девственность – я вполне девственна. Чего ещё тебе надо?
Что ему было возразить? Он вернулся домой как побитый. Теперь соображения внутреннего морального порядка не давали ему разыгрывать из себя ищейку. Всё-таки его маленькая доченька оказалась сильным человеком. Интересно, в кого? Знал ли он самого себя?
Им овладела апатия. Он не хотел портить дочке жизнь. Даже вот такую – странную и эфемерную. Для удобства он про себя решил, что она выдаёт желаемое за действительное. Раньше он с этим не сталкивался? Ну и что с того? Во-первых, раньше у него вечно не хватало времени пообщаться с дочерью. Во-вторых, у неё сейчас возраст такой – переходный. У девочек, и у его дочери в частности, в это время начинают расти груди, проявляются маленькие такие, как бутончики, сосочки и всё более набухают. На лобке густеют и темнеют волосы. Голос становится глубже. Это всё, разумеется, он замечал. Они даже взяли с собой в поездку прокладки, на случай, если у дочки произойдёт здесь первая менструация. Но вроде пока ничего такого не происходило. Хотя – жаркий климат мог ускорить события.
Неужели? Неужели всё-таки это имеет какое-то отношение к сексу? «Всё имеет хоть какое-нибудь отношение к сексу», – утешал он самого себя.
Поскольку учёный по-прежнему не мог заставить себя заняться хоть какой-нибудь околонаучной работой, а на преследование дочери было положено табу, ему стало как-то совершенно нечего делать. И захотелось домой.
Он вспомнил свои ощущения, когда несколько раз ему приходилось гулять с ещё маленьким ребёнком в сквере и наблюдать, сидя не лавочке, как малыши копаются в песочнице. Это была какая-то совершенно особая скука. С одной стороны – ты не мог не улыбаться, созерцая своё счастливое дитя и иже с ним. С другой – ты чувствовал себя здесь если не совсем лишним, то уж, во всяком случае, далеко не первостепенным персонажем, этаким сторожем, приставленным к бесценной принцессе. Твоя личность, столь долго лелеемая всяческими человеческими учреждениями, начиная с семьи, где с тобою возились родители, вдруг теряла свою абсолютную ценность. Здесь ты присутствовал – лишь постольку поскольку. Постольку, поскольку был необходим вот этому малюсенькому комочку новой жизни, который ещё толком не научился ходить и говорить. И в этом угадывались какая-то внутренняя несправедливость.
Много раз ему приходилось быть свидетелем перемалывания косточек этому веку: мол, раньше так не носились с детьми; рожали больше, но и больше умирало; в первобытном обществе, мол, вообще больше ценились пожилые люди, те, которые уже успели кое-чему научиться. Но разве те же обезьяны не таскают своих детёнышей повсюду за собой на спине? Разве жизнь родителя не обретает новый смысл, когда у него появляется потомок?
Это расставание с куском своего «я» при всей его необходимости и естественности, при всей красоте и целесообразности акта – не даётся без боли. Человек начинает понимать, что умирает. С того самого дня, как у него родился ребёнок, он уже не так много значит – сам для себя, сам по себе. В каком-то смысле – он теперь значит даже больше, но это теперь другой смысл. Как если бы он знал, что теперь уж наверняка присущая ему жизнь продолжится. Но если её будет продолжать пусть родственный, но другой, чуждый ему, разум, – что с того? Не всё ведь дано почувствовать отцу через сына или дочь напрямую.
Теперь этому растущему и открывающему мир созданию предоставлялась свобода действий. И тем менее ощутительной становилась свобода для тебя. Ты уже сделал выбор, и теперь, куда бы ты ни убежал – если только раньше смерти не потеряешь разум и память – знание о том, что ты уже получил продолжение, останется с тобой. И это продолжение – самостоятельно – вот в чём дело. Сейчас ты ещё помогаешь ему делать первые шаги, служишь ему, как преданный вассал господину, служишь будущему, но своему ли?
Эти смута и грусть с особенною силой охватывали его тогда, когда он переводил усталый взор с играющих детей на серое городское небо. Все мы там скроемся, все растворимся. И эти дети останутся одни. И будут так же, с сожалением, смотреть на своих детей. И всё же во всём этом была и правота, было и торжество. Невозможно было не улыбаться, хотя бы и сквозь слёзы.
Всю эту гамму чувств, ещё даже усложнённую необычностью обстоятельств, испытывал он и теперь. Провожая дочь неведомо куда, глядя на её хрупкую спину, на изящные загорелые позвонки, мог ли он не улыбаться и мог ли не грустить?
У неё что-то начиналось, а это, между прочим, значило, что у него что-то заканчивается. Да, и с этим следовало смириться. Больше ничего не оставалось. Ничего.
Очень скоро он перечитал все прихваченные с собою книги, и делать стало уже совершенно нечего. Учёный не мог объяснить себе своё неожиданное и, похоже, бесповоротное охлаждение к биологии. Может, с самого начала это было не его? А что же – его? Или тут сыграли роковую роль всё те же странные обстоятельства?
Слова значили слишком много и не значили ничего. Часто ему хотелось плакать. Он чувствовал себя совсем стариком. Мышцы как-то одрябли, появилась одышка. Но он не мог заставить себя делать хотя бы зарядку. Всё больше лежал в гамаке и страдал.
Дочь видела, что с отцом происходит что-то неладное и стала к нему особенно ласкова. Он же считал дни, ибо до окончания месяца, на который они договорились с аборигенами, теперь – слава Богу! – оставалось уже немного. Это для него – слава Богу, а для дочки? С ней он об этом даже боялся заговаривать. Он не мог себе представить, что захочет здесь задержаться хотя бы ещё на день после того, как прибудет машина. А ведь в самом начале и этот месяц представлялся ему лишь началом. Он не предполагал, что так скоро пресытится райским одиночеством. К тому же, и погода начинала портиться. После обеда – второй день подряд собирались тучи. Дожди были короткими и пока не сильными, но – имея в виду особенности тропического климата – можно было предположить, что скоро польёт по-настоящему. Он досадовал на себя, что перед отъездом довольно легкомысленно отнёсся к изучению сложностей местной метеорологии. Теперь ему чудились всякие ужасы – вроде потопов, селей и оползней. Хороши также были ураганы и торнадо – всё это могло приблизить возвращение домой. И ему было совершенно всё равно, что его там ждало, только бы – отсюда…
Дождей следовало ожидать. Если бы здесь всегда было так сухо, как в первые недели их пребывания, откуда бы взялась эта жирная трава? За это время она уже успела изрядно выгореть. Пейзаж изменил цвет – из изумрудно-зелёного он превратился в оливково-рыжий. Цвели уже совсем другие цветы и летали другие бабочки. Прибавилось и кровососущих насекомых, и змей. Но всё это было – не главное. И всё это, на самом деле, отнюдь не создавало каких-то таких уж непереносимых неудобств, от которых следовало бы бежать сразу и без оглядки. Всё дело было в дочери, в её более чем странных отлучках, в её новых друзьях, которых он до сих пор так и ни разу и не видел, хотя неоднократно просил, прямо-таки умолял, дочку передать им свои приглашения. Должен же он, в конце концов, знать, с кем она проводит больше времени, чем с ним?! Что это за инкубы такие таинственные? Может и в самом деле – инкубы? Тут он повторял жест дочери, открещиваясь – вроде бы шутливо – от гипотетических нечистых.
– Пап, я вижу, как ты мучаешься, – сказала однажды дочка. – Ты хочешь уехать?
– Честно говоря, да, – ответил он.
– Ты даже похудел, – сказала дочь.
– Правда? Ну это пойдёт мне на пользу.
И вдруг: