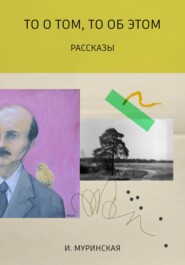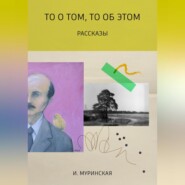По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мартин М.: Цветы моего детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это было правдой. Он не знал наверняка, как это произошло, но был почти уверен, что их выбросил отец или Корнелиус.
– Мы можем вырастить новые фиалки для нее.
– Правда?
Вместо ответа она улыбнулась и посмотрела в сторону. Где-то невдалеке раздалась серия резких высоких звуков, похожих на писк резиновой уточки.
– Все думают, что дятлы умеют только стучать. Но это не так. Дятлы умеют петь.
Мартин поднял голову. На высокой сосне примостилась крупная пестрая птица с белой грудкой и красной шапочкой. На пение это было похоже очень мало.
Глория
Госпожа Лилия всегда обращалась с Мартином натужно дружелюбно.
– Ну здравствуй!
С этими словами она наклоняла к нему свое густо напудренное лицо и расплывалась в покровительственной улыбке. Мартин сдержанно отвечал: «Здравствуйте», – и уходил к себе в комнату. Корнелиус говорил, что она шлюха. Мартин не вполне понимал смысл этого слова. Также он не понимал, что могло привлекать ее в отце, но был благодарен ей за то, что иногда она избавляла их от его общества. К сожалению, в последнее время они оба все чаще проводили время здесь, в их доме. Несколько раз госпожа Лилия даже оставалась на ночь. В шкафчике над раковиной появилась пара загадочных стеклянных баночек. В одной из них можно было распознать туалетную воду. На ней была нарисована дама в черных чулках, а сверху наискосок золотыми буквами было выведено название – «Глория». Должно быть, подумал Мартин, где-нибудь еще живет госпожа по имени Глория, у которой в шкафчике хранится туалетная вода под названием «Лилия».
Все это вполне можно было бы терпеть, если бы госпожа Лилия не перешла черту. Придя однажды из школы, он застал ее на кухне облаченной в старый халат его мертвой матери и поливающей фиалки, которые он выращивал для ее могилы.
– Ну здравствуй!
Мартин ничего не ответил, сгреб в охапку три маленьких горшочка с розовыми и сиреневыми цветами и унес их в свою комнату. Вечером того же дня он слышал, как она говорит с отцом. Хотя он смог разобрать только отдельные фразы – «бедный мальчик» и «надо же заниматься воспитанием», – но этого хватило, чтобы понять, что она говорит о нем.
Все уже легли спать, когда Мартин совершал свой вечерний туалет. Он принял душ, почистил зубы и насухо вытерся большим махровым полотенцем, которое когда-то было белоснежным, но со временем приобрело желтовато-серый оттенок. Затем он открыл шкафчик над раковиной, взял в руки пузырек с туалетной водой, открутил колпачок в виде розы и аккуратно вылил содержимое в сток ванны. Удерживая пузырек в левой руке, он выпустил из себя решительную струю мочи, стараясь попасть в узкое горлышко. Когда «Глория» снова была наполнена, он закончил облегчаться в сток, закрутил колпачок и поставил ее на прежнее место.
Метафизика
Он любил фотографировать цветы вечером. Просто цветы, но непременно вечером. Чтобы на их фоне виднелись закатные всполохи, электрические городские огни или хоть просто поголубевшая без солнца даль. Ему виделась в этом какая-то своя, особая праздничность, такая, какая возможна только вечерами и только в такое время года, когда уже или еще можно встретить тут и там эти самые цветы. В том отношении, которое устанавливалось между ними и воздухом, являвшим на фотографии привилегированные вечерние цвета и заставлявшим думать о теплом ветре (теплый вечерний ветер – апогей лета), открывалась даже некоторая собственная метафизика. Ему казалось, что это отношение как-то связано с его снами, а сны – со смертью, точнее с ее преодолением. Иногда ему именно так все ночами и грезилось: лето, вечер, цветы и эта спасительная городская праздничность, ничего не имеющая общего с теми праздниками, которые ему довелось наблюдать в действительности, без столпотворений, без парадов, без концертов на площадях, без мусора и без пошлой, дурной идеи, – только напоенный теплом и сладкими запахами город, создающий ощущение праздника, имея для этого гораздо более веские основания, чем все то, что принято этим словом обычно называть. Это ощущение происходило скорее из тишины, чем из шума. Порой оно возникало, когда такими теплыми вечерами допоздна не включали на улицах фонари – и вот они загорались. Согласно этой метафизике, в такие моменты он не жил, а переживал переход от жизни к смерти, и, очень может быть, спасение состояло в том, что переход этот мог длиться, в отличие от жизни, сколько угодно долго, так как был лишен обычных пространственно-временных форм, свойственных жизни, но и небытием при этом не являлся. Так ему казалось. Он не знал, думает ли об этом же или о чем-то подобном кто-нибудь другой, кто смотрит на его фотографии. Да никто на них, собственно, и не смотрел. Почти никто. Иногда он показывал какие-нибудь из них Марии и Фи, но они, если и проявляли интерес, то в основном из вежливости, а если не из вежливости, если они действительно проявляли интерес, то это был такой интерес, который не совпадал с его собственным. При всей своей жизненной неустойчивости, он обладал абсолютной и предельной творческой уверенностью. Его не интересовала никакая критика в отношении того, что он фотографировал, так как он был убежден: то, что было им сделано, могло быть сделано только так и никак иначе, и единственной мерой этих вещей оставался он сам.
Прикосновение
Господин Удрилло всегда и везде стремился стать «своим».
– Дорогая моя, вещь ге-ни-аль-ная!
Возвращая Октавии очередную прочитанную книгу, он всегда старался прикоснуться к ее руке. Она ненавидела этот назойливо-фамильярный жест и всю его манеру держаться, но в то же время не могла не замечать, какая у него мягкая и теплая кожа, и думала о том, как бы ей хотелось, чтобы к ней прикоснулся кто-нибудь не такой противный, как господин Удрилло.
Госпожа Мильтон всегда улыбалась, когда встречалась взглядом с Октавией. В этой улыбке не было ничего нахального. Это была простая вежливость, которая, хотя уже и была сама по себе явлением почти необычайным для их города, не имела ничего общего с чувствами Октавии, когда та улыбалась в ответ. На вид госпоже Мильтон было около сорока пяти лет. Ее румяное, никогда не скрытое под косметикой лицо украшали тонкие обаятельные морщины, обнаруживающие в нем склонность к интеллигентным и жизнерадостным выражениям. Слизни обладают как женскими, так и мужскими половыми органами. Ее одежда всегда выглядела чрезвычайно непритязательно, почти неряшливо. Короткая мужская стрижка и ортопедические ботинки завершали ее образ женщины, у которой есть в жизни что-то поважнее, чем погоня за модой и внешним лоском. Что это было, Октавия не знала. Знала она только то, что как бы ни нарядилась госпожа Мильтон, она всегда будет оставаться самым восхитительным человеком на свете. В ее манере говорить Октавии слышалось что-то недосягаемое – что-то такое, чему невозможно подражать и на что невозможно ответить с достаточной степенью признательности. Каждым своим движением она проливала на все вокруг потоки безупречной тактичности и глубочайшей мудрости. Октавия не знала, чего бы ей хотелось от госпожи Мильтон. Обычно слизняк следует за слизью другого слизняка и может даже поедать эту слизь. Никакие варианты социальных связей не представлялись ей подходящими, чтобы удовлетворить ее тайное поклонение этой великолепной персоне. Так что приходилось довольствоваться редкими и короткими встречами в библиотеке, когда госпожа Мильтон неизменно приветливо, но без лишних комментариев сдавала прочитанную книгу или брала новую. В отличие от господина Удрилло она никогда не прикасалась к Октавии, но отчего-то ей казалось, что достаточно было бы только попросить, и бесконечно добрая госпожа Мильтон прижала бы ее к своему полному телу с той нежностью, на которую не способны ни дружба, ни материнство, ни романтическая любовь, ни что-либо другое. Затем слизняки находят друг друга и начинают кружиться вместе.
– Здравствуйте! Будьте так добры, еще вот это .
Эти слова она произнесла с легкой одышкой, которая, как и все остальное, показалась Октавии неотразимой. Хотя никаких очевидных семейных или профессиональных признаков госпожа Мильтон не демонстрировала, Октавия была уверена, что у нее самая интересная, наполненная и сложившаяся жизнь, какую только можно себе представить. Иначе и быть не могло. И ей было мучительно стыдно перед госпожой Мильтон за собственное жалкое, не имеющее веса существование. Она страшно завидовала тем людям, которым повезло попасть в число ее окружения. В ее присутствии Октавия переставала бояться смерти.
Гениталии слизней – одни из самых удивительных в мире.
Туалет
На переменах в школьном туалете всегда было полно учеников старших классов, которые делали там что угодно, только не справляли нужду. На серо-зеленой стене висело несколько ржавых писсуаров, а справа возле окна, ничем не огороженный, стоял унитаз, на закрытой крышке которого обычно сидел самый авторитетный из находящихся в туалете старшеклассников. Большой глупостью с стороны кого-то вроде Мартина было бы даже заглянуть туда на перемене, а о том, чтобы воспользоваться туалетом по назначению, и говорить было нечего. Поэтому в случае сильной нужды ему приходилось поднимать руку во время урока и при всех задавать вопрос, который уже сам по себе расценивался как проступок:
– Можно выйти?
В половине случаев ему довольно грубо отвечали отказом, ссылаясь на то, что «скоро перемена». Мартин, конечно, не мог объяснить, что ему необходимо выйти до того, как она начнется, что это его единственный шанс облегчиться до конца школьного дня. И ему ничего не оставалось делать, кроме как послушно оставаться на месте, надеясь, что следующие учительница или учитель окажутся к нему более благосклонны и что его одноклассники не обратят внимание на повторный вопрос. Госпожа Петра была единственной учительницей, которая не только всегда позволяла ему выйти, но даже не сопровождала свое позволение раздражительными или насмешливыми комментариями. В одном из таких походов Мартин встретил возле туалетов Клелию. Она полоскала лицо водой из-под крана. Ее глаза и губы выглядели так, как они выглядят у человека, который сильно и продолжительно плакал. Заметив Мартина, она улыбнулась, поздоровалась с ним и, опустив голову, чтобы волосы густо падали на лицо, пошла на урок. В последнее время он часто видел ее в компании других старшеклассников и старшеклассниц, особенно часто – одного конкретного старшеклассника, который позволял себе в обращении с ней немыслимые вещи. Например, объятие за талию или прикосновение к волосам. Все это он проделывал с невероятными непринужденностью и небрежностью, а Клелия не только позволяла ему это, но как будто даже поощряла его. Происходящее было для Мартина мучительно, но отчего-то каждый раз, когда ему предоставлялась такая возможность, он не мог отвести от них взгляд.
Обморок
Вскоре после случая в коридоре Клелия прекратила водиться с тем одним конкретным старшеклассником и всей остальной компанией и стала такой, какой Мартин всегда ее знал. Она снова время от времени сидела с ним, Фи, а теперь еще и Марией за одним столом в школьной столовой, а иногда и прогуливалась с ними после уроков. Казалось, не только на него, но и на всех остальных ее общество действовало целебно. Мартину почти не было больше неловко во время этих прогулок. Изредка ему становилось совсем спокойно и легко – как будто они четверо лучшие друзья уже целую вечность. Это чувство было слишком хрупким и никогда не длилось долго. Что угодно могло разрушить его – равнодушное пожатие плечами Фи, сумрачная задумчивость Клелии, которая возникала на ее лице все чаще, углубившийся в спиральной раковине слизень в глазах Марии. Он все время боялся того, что кому-нибудь из них станет скучно, если он будет слишком долго молчать, и того, что он кого-нибудь утомит, если будет говорить слишком много и невпопад. Ему хотелось, чтобы им было так же приятно, как ему, и чтобы они его не оставляли. Мартину было стыдно за это желание, он считал себя недостойным их дружбы.
Однажды во время подобной прогулки Мартин дошел до такой степени трепета и озабоченности, что у него потемнело в глазах. Он начал беспомощно оседать и цепляться за воздух. Его подхватили под мышки и отвели на газон, где он положил голову на траву и на мгновение провалился в небытие. Когда к нему вернулись сознание и зрение, он увидел, что все трое склонились над ним и с выражением крайней тревоги заглядывают ему в лицо. Мартин слабо улыбнулся. На спине и на лбу у него выступили крошечные капельки пота. Он приподнялся на локтях и, предупреждая возражения, сказал как можно бодрее:
– Все хорошо, мне уже совсем хорошо!
Клелия, Фи и Мария стали переглядываться и улыбаться. Потом они засмеялись. Мартин тоже засмеялся. Он чувствовал себя еще довольно слабым, но ему было очень радостно и весело. И немного жутко.
Имя
Примерно через пару недель после эпизода с избиением он внезапно повторился. На том же месте, что и в прошлый раз, Вон настиг Мартина и уволок за гаражи. Точнее сказать, утолкал. Это было похоже на плохое театральное представление – Вон как будто только делал вид, что пытается куда-то заманить Мартина, а Мартин как будто только притворялся, что тому это удается. Казалось, он в любой момент без особого труда мог убежать или позвать на помощь. А может, так оно и было. Но почему-то не делал этого. Как будто на него наложили заклятье. Оказавшись в укромном месте, Вон снова принялся неловко и с несвойственной ему нерешительностью поколачивать абсолютно не сопротивлявшегося Мартина. Длилась эта интерлюдия минут двадцать. Затем Вон, как и в прошлый раз, замешкался, словно хотел сказать или сделать что-то еще, но отчего-то не мог, и, шлепнув Мартина напоследок раскрытой ладонью по уху, молча, не оглядываясь, очень быстро пошел прочь, как если бы он был преследуемым, а не преследователем. Мартин остался стоять на месте. Он чувствовал, как мышцы под его кожей в местах ударов, распределившихся равномерно по всему его туловищу, рукам и ногам, наливаются мягким теплом и болезненно пульсируют. Он осторожно вышел обратно на тропинку, оглянулся вокруг, не то высматривая Вона, не то проверяя, не заметил ли их какой-нибудь прохожий. Убедившись, что поблизости никого нет, он пошел домой.
В третий раз Вон побил его неожиданно сильно. Мартин вел себя так же, как прежде, не предпринимая попыток ни убежать, ни защититься, а когда Вон исчез, лег в траву и стал ждать, когда шум в ушах прекратится, а перед глазами перестанут мерцать черные звездочки. Он никогда не бил его по лицу. Для них обоих было крайне важно сохранять происходящее в секрете.
Между тем, в школе он стал для Вона невидимым. Насмешки и угрозы прекратились так резко и бесследно, что это могло бы показаться кому-нибудь подозрительным, если бы этому кому-нибудь было до них дело. Иногда, во время уроков, Мартин с осторожностью вглядывался в лицо Вона, пытаясь разгадать, о чем тот думает, и содрогался от собственной дерзости. Если случалось так, что Вон не замечал его, и Мартин смотрел на его лицо достаточно долго, оно начинало отдаляться от всего того, что было с ним связано. Оно начинало казаться красивым, утонченным, мечтательным, лицом тихого и задумчивого литературного мальчика, которого ждет ранняя смерть и долгая память. Но любая подобная фантазия рушилась, стоило Мартину произнести, хотя бы даже про себя, его имя. Вон. Какое оно, если подумать, глупое и дурацкое. Однако подобные измышления не спасали его от того загадочного и острого ужаса перед чем-то неназванным, стоящим позади боли, страха и унижения, который внушал ему Вон, который внушало ему его глупое имя. Каждый раз, когда впоследствии, много лет спустя, он будет слышать или читать это имя или имена некоторых других своих бывших одноклассников и одноклассниц, та пелена устойчивости и всего, что успело нарасти в нем за прошедшее с тех пор время, обнаружит уродливые дыры в самых нежелательных и неудобных местах. Он будет с изумлением смотреть в эти дыры и наблюдать в них такое, что для внутреннего зрения тождественно наблюдению ничем не защищенными глазами солнечной поверхности в ее максимальной ослепляющей губительности. Оттуда, как двадцать пятый кадр, как страшное лицо в зеркале за спиной смотрящего, как черная дыра, как неизбежность смерти, ему будет являться сам корень зла, такой несоразмерный ему и такой ужасный, что его здравый ум на мгновение будет переставать быть таким уж здравым. Он будет ощущать, как внутри него словно бы происходит короткое, но сильное и разрушительное землетрясение. На какую-нибудь секунду он будет становиться безумным, беспомощным, будет выпускать из рук все нити, за которые надо держаться, и теряться оттого, как, оказывается, этот корень зла всегда остается близко.
Посуда
Госпожа Лилия теперь жила с ними, и у Мартина с Корнелиусом наконец-то появилось что-то общее. За ужином, который она исправно каждый день готовила, они старательно изображали на лице гадливость и с опаской ковыряли вилками в своих тарелках. Иногда Корнелиусу казалось, что этого недостаточно, и в ответ на пожелание приятного аппетита он отпускал какой-нибудь комментарий, приводивший отца в ярость.
– Это что, собачатина?
Мартин прыскал со смеху и впервые в жизни видел в лице брата дружескую признательность.
– Так, а ну ешь молча!
Как-то Мартин зашел за стаканом воды на кухню и застал госпожу Лилию за мытьем посуды. Оставаться враждебным к ней одному, без Корнелиуса, было сложнее. Особенно когда она выглядела такой жалкой и беспомощной, как в тот вечер. Мартину показалось, что ее лицо опухло от слез. Хотя возможно, и нет – оно всегда было немного опухшим. Она ничего не сказала ему после происшествия с «Глорией», но фиалки и вещи матери больше не трогала. Чтобы достать графин, ему пришлось протиснуться между ее широкими бедрами и столешницей, и он уловил тяжелый вздох и что-то вроде всхлипывания. Эти звуки, водянистый взгляд, опухшие веки и нечаянное прикосновение к ее широкому телу заставили его вздрогнуть. Он с особенной отчетливостью вспомнил мать, такую же несчастную, одинокую и большую, какой теперь была госпожа Лилия.
– Хотите, я помою?
В ответ она пробормотала что-то похожее на протест и потрепала его по волосам так ласково, что Мартину пришлось отойти к окну и смотреть в него до тех пор, пока не перестанут наворачиваться слезы. Во дворе стоял Мокля с еще несколькими детьми и бросался комками мокрой грязи в Эсмеральду. После каждого попадания они громко смеялись. Она не обращала на них внимания, продолжая невозмутимо орудовать метлой, и даже не стряхивала прилипавшую к одежде землю.
Зимние сны
Когда снова пришла зима и сухие цветы на кладбище покрылись толстым слоем снега, Мартин продолжал приходить и приносить матери засушенные бутоны из своего гербария. А по ночам ему снилось лето. Прозрачная легкость воздуха и нежный шелест зеленых деревьев над головой – каждую зиму он не мог поверить, что это не выдумка, что с ним это действительно случалось. Каждым серым промозглым днем летние воспоминания казались ему бесконечно далекими. Он мысленно оплакивал их, как покойника, а новая встреча с ними в будущем казалась такой же мистической и не укладывающейся в рамки обыденной реальности, как встреча с умершей матерью. Он засыпал, и видел, как вместе с Фи, Клелией и Марией идет по пыльной тропинке, которая приводит их к знакомому надгробию, а у его основания лежат огромные красные маки. Его ничуть не удивляет, что над гранитной плитой теперь возвышается белый каменный ангел. Все четверо так разморены солнечным жаром, что ложатся на мягкую траву прямо между могилами и погружаются в дремотное оцепенение. Воздух над ними – не просто теплее, чем зимой, он по-настоящему другой. В этом воздухе они, Мартин чувствует, действительно вместе – он, Фи, Клелия, Мария и его мертвая мать, которая наконец-то окружена должными вниманием и заботой. И смерть в этом воздухе кажется всего лишь продолжением той нежности, которая льется из невидимых серых щелей где-то между ними и ласковым июльским ветром, той действительностью, в которой нет и никогда не будет неприятных признаков реальности.
Тропинка
По причине, которую Мартин уже никогда не вспомнит, школы в тот день не было, но к полудню ему нужно было попасть на репетицию хора. В такое время на улицах бывает очень тихо, и если негреющее, как тогда, зимнее солнце освещает покинутые человечеством фонари, машины, турники и дома, становится особенно тоскливо, оттого что некому больше ждать, когда снег растает, и земля под ним оживет. Размышляя об этом, Мартин перебирал ногами в потертых нубуковых ботинках, пока ему не послышался невнятный шум, похожий на завывание ветра и на человеческий голос одновременно. Он замер на пару секунд, прислушался и зашагал дальше. В тот же момент шум повторился, на этот раз более отчетливо и более похоже на человеческий голос, чем на завывание ветра. Мартин снова остановился и посмотрел по сторонам. Справа от него белела однополосная дорога, вдоль которой стояли припорошенные снегом автомобили, а за ней проходил стальной трубопровод, окруженный редкими голыми кустиками, слева стоял пятиэтажный дом с квадратными окнами, сквозь которые ничего кроме узоров на тюле при дневном свете было не разглядеть. Когда шум повторился в третий раз, он уже наверняка был не завыванием ветра, а человеческим голосом:
– Помогите!