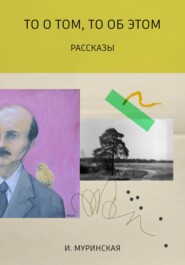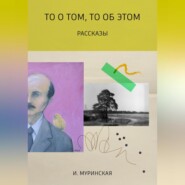По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мартин М.: Цветы моего детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На следующий день они встретились там же, только теперь с ними был еще Фи. Мартин и Мария снова поменялись одеждой – на этот раз на нем оказалась мохеровая кофта с жемчужными бусинами, а на ней темно-зеленый кардиган с тремя большими белыми пуговицами. Фи принес с собой лист ватмана, приколол его кнопками к стене и написал малиновым карандашом: «Клуб несоревнующихся». Немного полюбовавшись заголовком, они решили придумать правила. Мария была среди них самой радикальной несоревнующейся:
– Никогда и ни при каких обстоятельствах не принимать участия ни в каких соревнованиях, конкурсах, играх на победителя и во всем, что по своей сути является таковым! Пресекать любые попытки спровоцировать ситуации соревнований, конкурсов, игр на победителя и всего, что по своей сути является таковым!
Фи занес над ватманом черный карандаш, но заколебался и повернулся к Марии:
– А если нам придется участвовать в школьных олимпиадах или на физкультуре придется бежать наперегонки?
Они принялись спорить, а Мартин молча сидел в углу между подушками и, не принимая участия в разговоре, слушал их одинаково сдержанные, но твердые и полные убежденности голоса с невыразимой нежностью. На секунду ему показалось, что они подходят друг другу гораздо лучше, чем он любому из них, ему стало грустно и захотелось раствориться в прохладном воздухе зимней комнаты, или, может, превратиться в прозрачное розовое облачко или в опавший лепесток георгина. Но сделать этого он не мог, так что только слегка приподнял правую сторону своего седалища и почти беззвучно выпустил из себя струйку газа, надеясь, что это не испортит атмосферу ни в буквальном, ни в переносном смысле (симпатичным он себе больше не казался).
В конце концов первое и единственное правило «Клуба несоревнующихся» стало звучать так: «По мере возможности и сил избегать всего, что заключает в себе соревновательный элемент любого рода». Президентом клуба было решено назначить Ко-ко, цыпленка с недоразвитой правой лапкой, сидевшего и днем и ночью в одном и том же месте между стеной с выцветшими обоями и глиняным горшком с увядающей монстерой.
Избавление
Признаваться в этом было тяжело, но в глубине души Мартин знал, что удерживало его мать и госпожу Лилию с отцом. Фредерик М. был определенно самым привлекательным мужчиной в их городишке и живым примером тлетворности соревнований – он был победителем всегда и везде, не приложив к тому же ни капли усилий для этого. С его мужественного, неизменно гладко выбритого лица никогда не сходило одно и то же маслянистое самодовольство. Даже абсолютное отсутствие вкуса не портило его. Интересно, размышлял Мартин, если бы отец не был красив, он бы не стал таким напыщенным придурком или, напротив, был бы еще хуже? Впрочем, в последнее время он как будто слегка образумился, или просто притих под властной, покрытой увесистыми перстнями, рукой госпожи Лилии. Иногда он представлял, как она прогоняет отца из дома, а вместе с ним уходит и Корнелиус. И они остаются с ней вдвоем, готовят множество изысканных блюд, выращивают прекрасные экзотические цветы, перешивают старую одежду (госпожа Лилия работала в ателье), красят стены, ходят по магазинам, а однажды, может быть, даже идут вместе на кладбище. Но нет, этого не могло произойти. И едва ли ему стало бы от этого лучше. Знать, что где-нибудь там, где-то еще этот человек с такими же, как у него, глазами продолжает с гордостью носить военную форму и разговаривать с официантками и вообще почти всеми женщинами фамильярно-непристойным тоном, из-за которого Мартин всю жизнь сгорал от стыда, было бы, возможно, еще более мучительно, чем продолжать быть частью этой жизни. Нет, должно было найтись другое решение, и это решение уже очень скоро подскажет ему Герман К.
Герман К.
Вообще-то Герман К. появился уже давно. На бесчисленных рисунках, которые Мартин делал при помощи карандашей и бархатистой бумаги, он танцевал, истекал кровью, оплакивал мертвых птиц и просто чего-то ждал – наверное, своей возможности высказаться. У него было тонкое субтильное тело, длинные стоячие уши и немигающие черные глаза. Формально он был кроликом. Поначалу Мартин встречал его только на кладбище, когда приносил цветы для матери. Очень робко он выглядывал из-за какого-нибудь надгробия, а когда понимал, что его заметили, убегал по-человечьи, на двух ногах, в лес. Да, Мартин понимал, что здесь что-то не так, что нельзя делать вид, что все по-прежнему и продолжать хранить это в секрете. Но в Германе К. было то, что не смогли бы понять даже Фи, Мария и Клелия. Он пришел к нему из тех мест, где среди маленьких синих фиалок жил лис, где в небе всегда висели тяжелые серые облака, готовые вот-вот разразиться ливнем, но поскольку времени в этих краях не существует, они просто оставались висеть как есть, тяжелые и серые. Он был с ним в больнице, он был с ним школе, он был с ним в самые тяжелые моменты жизни, хотя его и не всегда можно было увидеть. Он был с ним не для сочувствия и поддержки. Он просто был с ним. Он пришел к нему оттуда, куда Мартин никогда бы не смог никого отвести. И если бы вход туда оказался для него закрыт, никакая радость на свете не смогла бы удержать его в этой жизни. Потому-то он и не мог позволить себе что бы то ни было, способное отпугнуть Германа К.
И уже тогда Мартин знал, что готов ради него на все, абсолютно и безоговорочно.
Фасоль
На каждом школьном уроке музыки, который удивительным образом не имел ничего общего с музыкальной школой и всем тем, что в ней происходило, они неловко и невпопад исполняли выуженные из каких-то заплесневелых периферийных культурных областей песни под аккомпанемент мрачной и надутой госпожи Алалы, баянистки. Мартину не нравились эти лубочные баллады. Всех остальных они просто смущали. Но для него они были еще и оскорблением хорошего вкуса.
– В той бухте, где отважный Грей нашел свою фасоль,
В той бухте, где фасоль дождалась Грея!
Фи прыснул со смеху. Мартин был очень горд тем, что смог его рассмешить, такое случалось не часто. Мария улыбнулась. Госпожа Алала была на грани того, чтобы рассвирепеть, и от этого тоже было по-своему приятно.
День рождения Клелии
Мартин был немного обескуражен тем, что Клелия пригласила на свой день рождения его одного, без Фи и Марии, но, тем не менее, он чувствовал себя очень счастливым. Он начал готовить для нее подарок еще прошлой осенью, хотя и понимал, что у него может вообще не оказаться возможности ее поздравить. Всякий раз, когда она оказывалась неподалеку, но на достаточном расстоянии, чтобы ничего не заметить, и принимала удачный ракурс, Мартин делал снимок. На момент приглашения у него насчитывалось около сотни фотографий. Примерно половина из них никуда не годилась, а среди остальных были выбраны тридцать две подходящих. Каждая занимала отдельную страницу в собранном из крафтовой бумаги и картона альбоме, дополненная цветком из Мартиного гербария. Особенно хороша была та, на которой Клелия играла что-то на скрипке, наполовину освещенная ярким солнечным светом, льющимся из открытого окна. Рядом с ней он приклеил веточку мяты.
Дверь открыла сама Клелия. На ней было короткое черное платье. Из комнаты доносились громкие возгласы и смешки. Мартин, конечно, понимал, что он не может быть единственным гостем, но все же не ожидал такого оживления. Клелия приняла протянутый ей сверток и, не разворачивая его, повела Мартина в гостиную. Там, за большим раскладным столом, уже сидело человек восемь. Все они были примерно одного возраста с именинницей, а значит, на несколько лет старше него. Наедине с Клелией его никогда это не беспокоило, но теперь он почувствовал себя так, как будто зашел во время урока в чужой класс. Его посадили между двумя подругами Клелии, Ритой и Салли, которых он прежде видел только издалека, и положили ему на тарелку куриную ногу с салатом из крабовых палочек. Рита и Салли как будто не заметили его возникновения и продолжали начатый ранее разговор, только слегка подавшись по направлению друг к другу туловищами, так что Мартину пришлось придвинуть тарелку как можно ближе к краю стола. Клелия тем временем вернулась к другим гостям в противоположной стороне комнаты. Кажется, всем, кроме него, было очень весело. Он старался есть как можно медленнее, так как понимал, что когда еда закончится, у него не будет даже этого занятия, и ему станет еще более неловко. Ему захотелось, чтобы все эти люди исчезли, и они с Клелий остались в квартире вдвоем, как тогда, когда он разбил колено и она напоила его чаем. Один из старшеклассников сидел к ней очень близко и говорил ей что-то такое, отчего она постоянно смеялась. Этот персонаж олицетворял в себе то, за что Мартин ненавидел подростковую культуру, – непристойную развязность, грубость и плохой вкус. На нем была красная рубашка с двумя расстегнутыми у воротника пуговицами. Его рука лежала на спинке ее стула. От каждого случайного или неслучайного соприкосновения их тел через все нервы Мартина пробегала неприятная молния. Сначала он думал, что Клелия вообще все подарки откладывает в сторону, чтобы посмотреть их позже, но когда пришли еще двое гостей, и протянули ей большую коробку с розовым бантом, она открыла ее тут же. Там оказалась ярко-синяя сумка из искусственной крокодиловой кожи. Клелия повесила ее на плечо и картинно завертела бедрами.
Продолжать есть вечно было невозможно, и Мартин стал листать журнал, лежавший возле него на тумбе. На последней странице был гороскоп на текущую неделю. «Проведите время в обществе близких друзей. Хороший отдых пойдет вам на пользу». Старшеклассник в красной рубашке теперь сидел еще ближе к Клелии, а его рука была у нее на плече.
Пришло время торта. Именинница задула свечи и все захлопали. Когда стали раздавать тарелки, она, кажется, заметила, что Мартину не так весело, как всем остальным и, наконец, вспомнила про подарок, который он принес. Сперва это его обрадовало, но в тот же момент он обмер от ужаса, так как Клелия встала во главу стола и провозгласила:
– Внимание! Мартин тоже принес мне что-то!
Старшеклассник в красной рубашке хихикнул и приобнял ее за талию. Она развернула альбом и принялась его рассматривать.
– Ой… Это же… Когда ты… Когда это было?
Все собрались вокруг Клелии, чтобы узнать, что ее так удивило. Старшеклассник в красной рубашке притянул альбом к себе и, скорчив дурацкую гримасу, воскликнул:
– Влюбился парень!
Все засмеялись, в том числе Клелия. Она, правда, сдерживалась, и в ее лице можно было заметить тень жалости, но старшеклассника в красной рубашке она от себя не отстранила. Мартину очень хотелось уйти, но вместо этого он постарался сделать вид, что ему тоже очень весело и что все это просто шутка. Он подождал, пока им не надоест над ним смеяться, потом еще чуть-чуть, пока всеобщее внимание не обратится полностью к другим предметам, и, натянув улыбку, сказал Клелии, что ему пора идти.
Он проплакал весь путь до дома. Было уже темно, и он надеялся, что этого никто не заметит. Во дворе он все никак не мог остановить слезы, так что сел на качели и еще долго плакал, слегка шатаясь взад-вперед и низко опустив голову, чтобы со стороны казалось, будто он просто решил покататься. Когда он устал отталкиваться от земли ногой и качели остановились, к нему подбежал Пират и лизнул его в руку. Он не злился на Клелию, даже на старшеклассника в красной рубашке он больше не злился. Но утешение, которое она ему внушала, было утрачено навсегда.
Письмо
Иллюзию того, что все в порядке, дарили ему маленькие рутинные вещи, такие как полив цветов и регулярная проверка почты. Возвращаясь однажды из школы и мечтая о том, как польет сейчас свои дорогие фиалки, Мартин открыл маленьким ключиком неопределенно-ржавый почтовый ящик и среди рекламных листовок обнаружил письмо. В строке «Куда» значился его город, его улица, его дом и его квартира. В строке «Кому» было тонким наклонным почерком выведено – «Клавдию». Он думал, что знал имена всех живших не только в его подъезде, но и во всем доме, и никого по имени Клавдий здесь не было. С минуту он помедлил, раздумывая, как поступить. Конечно, следовало отнести письмо на почту, чтобы его отправили по обратному адресу, или попытаться там выяснить, кто такой Клавдий и передать письмо ему. И он уже было начал спускаться по лестнице, но с каждой секундой, которую он держал письмо в руках, мысль навсегда расстаться с ним становилась все более нестерпимой. Идея того, что регулярная проверка почты наконец-то приобретет настоящий смысл, казалась ему невероятно соблазнительной. И с быстротой, на которую только было способно его мягкое нерасторопное тело, он спрятал письмо в рюкзак, поднялся наверх, снял куртку, разулся и закрылся в своей комнате. Аккуратно надорвав край конверта, он достал тонкий, сложенный вдвое листок и стал читать: «Дорогой Клавдий. Прошел вот уже почти год с тех пор, как я не получаю от тебя ни слова, и я не нахожу себе места. Если я в чем-то перед тобой провинилась, пожалуйста, прости меня. Мне страшно не хватает твоих историй. Последнее твое письмо, в котором была «Сказка о серебряном дереве», я перечитала уже столько раз, что выучила его наизусть. Но я не прошу историй. Короткой весточки о том, что ты здравствуешь, было бы достаточно, чтобы сделать меня очень счастливой. Соломона пришлось кастрировать, потому что он все время кричал. С любовью, Октавия». Мартин перечитал письмо шесть раз, затем спрятал его в столе и отправился на улицу. Дойдя до площади с бронзовым бюстом, он повернул назад и углубился в унылые спальные пространства. В сгущавшихся сумерках он лежал внутри заржавевшей ракеты самого похожего на детскую площадку двора в их городе и думал о том, что настоящий полет в космос возможен только в том случае, когда ты не только никуда не летишь, но и знаешь, что этого никогда с тобой не случится. Он смотрел, как по мере наступления темноты в доме перед ним зажигается все больше окон, которые казались ему красивее и романтичнее звезд, и вдруг его осенило. На конверте значилась квартира номер восемнадцать. На двери квартиры первого этажа, которая с некоторых пор пустовала, висела цифра восемь. Вернувшись домой, он открыл шкаф, в котором хранил свои самые драгоценные вещи – фотографии и фотопленки, книги с гербарием, рисунки с Германом К., чистые перфокарты и некоторые другие важные предметы. Перебрав несколько беспорядочных стопок с бумагами, он отыскал альбом для рисования, который принадлежал бессловесному старику из восьмой квартиры, умершему около года назад. Кроме портрета мальчика, в нем было еще несколько картинок и коротких записей. Мартин осторожно вырвал лист, на котором были изображены голые верхушки деревьев, и на чистой стороне написал: «Дорогая Октавия. Пожалуйста, прости меня за долгое молчание и знай, что оно было гораздо менее долгим, чем ты думала. В октябре я отправлял тебе письмо, на которое не получил ответа, и решил тебе больше не докучать. Теперь я вижу, что то письмо до тебя не дошло. Наверное, потерялось где-то в пути. Я в добром здравии, хотя и чувствую себя иногда так, как будто выпал из космического корабля и навсегда остался болтаться в космосе. Ни одна зима еще не казалась мне такой долгой. Бедный Соломон! С любовью, Клавдий». Почти все буквы можно было найти среди коротких записей в альбоме, так что Мартину удалось, насколько он мог об этом судить, копировать кривоватый почерк старика. В конверт, который покупала еще его мать, он вложил также одну из своих любимых фотографий, сделанных с помощью монокля. На ней была высокая раскидистая сосна и проселочная дорога через пустошь. На следующий день он опустил письмо в узкий проем большого синего ящика на почте, а оказавшись снова дома, в необычайном оживлении полил, наконец, цветы.
Самолет
Мартин сидел в самолете возле иллюминатора и с нетерпеливым беспокойством ждал взлета. Слева от него расположился Корнелиус, обозленный, оттого что ему не досталось место у окна. Мать с отцом разделял центральный проход. Девушка с аккуратно собранными на затылке волосами, показавшаяся Мартину очень красивой, провела инструктаж по технике безопасности. Взлет его немного разочаровал. Было очень шумно. Когда привезли напитки, он попросил апельсиновый сок. На перевозном столике выстроились столбиками один на другом голубые, зеленые и розовые пластиковые стаканчики. Для Мартина вдруг стало чрезвычайно важно, чтобы ему достался именно розовый стаканчик. Конечно, он бы никогда не посмел попросить стюардессу об этом. То ли она догадалась о его желании, то ли ему просто повезло, но сок налили именно в такой стаканчик. Мартин был очень этому рад. Он приподнялся в кресле и посмотрел вперед, на перспективу голов и тусклых лампочек. Он знал, что некоторые люди боятся летать. А его уже тогда пугали совершенно другие вещи. Что плохого может произойти здесь, где собралось столько людей, одетых одновременно нарядно и по-домашнему просто? И никто его не трогает, никому не кажется его присутствие неуместным. Стюардессы очень к нему добры. Вся обстановка этого места – полная противоположность того, чего Мартин боялся. Это был особый род утешения, которое дарили ему все публичные, формальные ситуации. Ему казалось (хотя он и понимал, что это не так), что в таком месте он не может умереть, что вообще ничего по-настоящему плохого здесь не может с ним случиться. Зачем люди вообще занимаются чем-то другим? Зачем переодеваются в ночные рубашки, выключают свет, остаются наедине с самими собой? Иногда, если в такой момент ему становилось особенно страшно и тяжело, он старался вспомнить этот эпизод в самолете – мгновения абсолютного утешения. Он восстанавливал его в памяти во всех деталях: коралловые губы стюардессы, мягкий свет, льющийся из иллюминаторов, низкий голос пилота, который называл себя смешно «капитаном», розовый стаканчик с яблочным соком, притихшие в своих креслах люди, серый плед, который он уютно накинул себе на спину, хотя ему и не было холодно. Десять тысяч метров до земли не представляли для него ни малейшей угрозы. Настоящий ужас всегда оставался только в его кровати, под собственными закрытыми веками.
Ботанический сад
Госпожа Лукреция, учившая их биологии, организовывала школьную поездку в ботанический сад Большого города. Такого счастья Мартин себе и представить не мог. Заикаясь от волнения, он подбежал к смотревшему телевизор отцу и, стараясь, как мог, быть одновременно ласковым и рассудительным, изложил свое желание отправиться в «познавательную экскурсию».
– Вот сдались же тебе эти стручки…
Мартин был готов к насмешкам, он даже ждал их. Ради этой поездки он был готов на все.
– Это очень познавательная экскурсия. Госпожа Лукреция…
– Ты зарядку когда начнешь делать? Ты себя в зеркало видел? Я в твоем возрасте вставал в шесть утра и бежал километр.
Мартин был готов даже начать делать зарядку.
– Я… я могу начать бегать…
– Вот начнешь – тогда и поговорим.
– Но мне надо сдать деньги до понедельника…
– Так, все, хватит! Нет значит нет!
Мартин знал, что продолжать спорить после этих слов бесполезно. Он ушел в свою комнату, закрыл дверь и сел на кровать. Ему было известно, что Фи и Мария едут. В том, что он тоже поедет, не было никаких серьезных причин сомневаться. Взрывы неудовольствия отца отличались поразительной хаотичностью. Однако Мартин надеялся, что до таких пределов его жестокость не дойдет. Ему было так обидно, так стыдно за отцовскую тупость, что поплакаться никому он мог. Никому, кроме Германа К., который, он чувствовал, сидел сейчас прямо у него за спиной. Ему не надо было ничего не объяснять. Он молча положил свою велюровую лапку Мартину на плечо, а другой лапкой вложил ему в руку холодный металлический предмет, который, учитывая онтологический статус Германа К., был удивительно материален. Внезапно Мартин почувствовал себя гораздо лучше, как будто твердость этого нового, волнующего предмета передалась его бедному истерзанному сердцу.
Сказка Клавдия
Анубис-Второй-Великолепный никогда не видел ни деревьев, ни цветов, ни каких-либо вообще растений. В его стране земля была гладкая, как кожа дельфина, и бесплодная, как стены каменного дома, в котором он жил. Такой же она, вероятно, была и во всем остальном мире. На почте, где Анубис работал, на подоконниках стояли в качестве украшений замысловатые скульптуры из фольги и стекла, которые делал Клапаиньо, престарелый работник склада, которого все так уважали за его возраст и добрый, веселый нрав, что позволяли сколько угодно и где угодно расставлять свои поделки, хотя никто, или почти никто, их, по правде говоря, не понимал и не любил. Его искусство проникало во все уголки их невзрачного почтового быта. На кофейных кружках появлялись ажурные подстаканники, на женских шляпах – фантастические абстрактные композиции, и поскольку никому не хотелось обидеть Клапаиньо, там они и оставались. Однажды он не вышел на работу. Беды в этом не было, так как никто уже и не помнил, в чем состояли его служебные обязанности. Однако Анубису стало тревожно за старика, и вечером, по пути домой, он решил его проведать. Двери такого же чудаковатого, как и все, что делал Клапаиньо, дома, как будто скроенного из бесчисленного множества отдельных частей других, непохожих друг на друга, строений, были не заперты. Внутри были разбросаны куски металла, скрученные в удивительно тонкие формы листы фольги, обработанные и необработанные осколки разноцветных стекол и длинные отрезки толстой стальной проволоки в самых разнообразных формах. Анубис впервые за многие годы знакомства с Клапаиньо задумался, как ему, должно быть, было здесь одиноко. Никто не знал, была ли у Клапаиньо когда-нибудь семья. Казалось, будто он всегда был седоволосым эксцентриком, которого ничего не интересует и не должно интересовать, кроме своих безделушек. Пройдя через большую комнату, которая, по-видимому, служила Клапаиньо и мастерской, и спальней, и кухней одновременно, Анубис попал в короткий коридор, который вел во внутренний двор. Уже там, глядя наружу сквозь стеклянные двери, он заметил что-то необычайное. Немного помедлив, он толкнул хлипкие створки наружу и очутился на небольшом квадратном участке земли, обнесенном высоким забором. В самом центре располагался блестящий предмет, как будто врытый в почву, состоявший из одного толстого стержня в основании, нескольких расходящихся от него в разные стороны более тонких стержней и множества еще более тонких, расходящихся в свою очередь от них. Если бы Анубис не знал, как беден был Клапаиньо, то решил бы, что предмет этот вылит из серебра. Его плавные линии были выполнены с поразительной тонкостью и слегка покачивались от легкого ветра над головой Анубиса. При ближайшем рассмотрении он заметил, что поверхность толстого стержня была не гладкой, а покрытой сетью мелких бороздок и чешуек, немного напоминавших человеческое тело. Анубис прикоснулся к его поверхности и был удивлен тем, что не почувствовал ледяного холода металла. Шершавое покрытие было лишь немного холоднее его рук. Вернувшись обратно в комнату, Анубис решил ждать Клапаиньо, но что-то ему подсказывало, что тот не появится. Так он и просидел всю ночь в большом старом кресле с потертой кожаной обивкой. Половину комнаты занимали широкие котлы и валы на станинах, сообщавшихся между собой сложной сетью опор и рукояток. Неужели Клапаиньо смастерил все это сам? К утру Анубис задремал. Проснувшись, он снова вышел во двор. Загадочный предмет чудесно переливался, пошатываясь, в лучах утреннего солнца. Анубис подумал, что никогда не видел ничего красивее.
Прошла неделя. Клапаиньо так и не появился. Анубис шел по весенней улице и думал: как это печально, что человек исчез, а никому, в общем-то, и дела нет. Эта мысль казалась ему особенно мрачной оттого, что то же могло бы случиться и с ним. Незаметно для себя самого он снова оказался перед домом Клапаиньо. Блестящий предмет во внутреннем дворе словно притягивал его к себе. Он был не просто красив – он давал его усталым глазам какое-то блаженное отдохновение, которое можно было сравнить разве только с видом меняющих формы кучевых облаков. За прошедшую неделю в его конструкции как будто что-то изменилось. Анубис приблизил к себе один из тонких концов и обнаружил на нем какое-то овальное утолщение. Такие же наросты были на всех тонких стержнях. Он подумал, что, быть может, не заметил этого в первый раз, но, вернувшись снова через два дня, обнаружил еще большие изменения: вздутия как будто расслаивались на несколько нежнейших пластин, похожих на те, что Клапаиньо сажал на женские шляпы. Анубис стал проводить в доме старика больше времени, чем в собственном. За следующую неделю утолщения на загадочной скульптуре полностью раскрылись, а еще через неделю стали опадать на землю, создавая от порывов ветра сверкающий серебряный дождь. Анубис больше не мог хранить свое открытие в секрете, но и довериться кому ни попадя было нельзя. В конце концов он обратился к Тадеушу, другому древнему обитателю почтового склада. Кажется, ему было лет сто, а может быть, и все сто пятьдесят. Тот крайне недоверчиво посмотрел на Анубиса, когда он рассказал про чудо-фигуру, но отправиться с ним в дом Клапаиньо согласился. Шагнув во внутренний двор, Тадеуш замер. Его лицо приняло выражение, которого Анубис никогда на нем прежде не видел. Казалось, он даже немного помолодел. Очень осторожно прикоснувшись к основанию, Тадеуш торопливо развернулся и, жестом приглашая Анубиса последовать за собой, засеменил кривой походкой по улице. Через пять минут удивительно быстрой для своего возраста ходьбы Тадеуш, а вместе с ним и Анубис, оказались в ветхом здании библиотеки. Сделав несколько поворотов в лабиринте стеллажей, они очутились в самой темной и пыльной секции, где лежали самые старые книги и манускрипты. Вытащив внушительный том с некогда, вероятно, золотым срезом, Тадеуш принялся листать его желтые страницы, то и дело хорошенько облизывая пальцы, одинаково мало заботясь и о гигиене, и о сохранности реликвии. Наконец, он остановился и полушепотом воскликнул: «Вот!» Всю страницу занимала картинка, изображавшая предмет, чрезвычайно похожий на тот, что стоял во дворе Клапаиньо. Только его основание было не серебристым, а коричневым, а нежные образования на концах – белыми. Под картинкой стояла подпись – «Prunus padus». Никакой другой информации в книге не было. Выйдя из библиотеки, Тадеуш глубоко вздохнул и очень тихо, глядя своими выцветшими глазами куда-то сквозь все видимое, сказал: «Сынок, береги это дерево так, как не берег ничего в жизни, даже ее саму». Так он впервые услышал это слово – «дерево».
Вскоре о чуде во дворе Клапаиньо узнали люди. Анубис теперь жил в его доме, оберегая свое дерево, как наставил его Тадеуш. Каждый день перед его дверьми выстраивалась очередь из желающих прикоснуться к ожившей скульптуре. Анубис больше не мог работать на почте, поэтому собирал опавшие лепестки, плоды и листья и продавал их в качестве сувениров. Ходили слухи, что они исцеляют от болезней и даже воскрешают из мертвых, но Анубис считал, что все это чепуха. Клапаиньо он никогда больше не видел.
Ладно
– А я не хочу с тобой гулять, ни завтра, ни послезавтра!