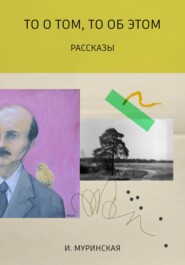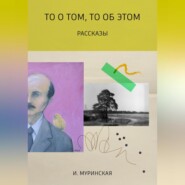По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мартин М.: Цветы моего детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мартин не мог определить, с какой стороны к нему приходит звук. Он приблизился к дому и пристально осмотрел все окна на первом и втором этажах. Никаких признаков присутствия или движения он не заметил. Ему показалось, что голос снова что-то произнес, но теперь он был дальше, чем вначале. Мартин перешел через дорогу и обследовал, нагнувшись, кусты под трубопроводом. Там не оказалось ничего, кроме нетронутого снежного слоя незначительной толщины.
– Пожалуйста, помогите!
Голос как будто снова удалился, и Мартин вернулся на тропинку между домом и трубопроводом, на которой он впервые его услышал.
– Пожалуйста…
Теперь голос снова казался близким и чрезвычайно отчетливым. Мартин посмотрел вверх. Над ним не было ничего, кроме ясного голубовато-белесого неба. Он снова оглядел все окна и все кусты под трубопроводом. А голос снова удалялся от него, и приближался только тогда, когда он возвращался на пустую тропинку. Мартин присел на корточки, обхватил руками колени и положил на них подбородок. За все это время в его поле зрения не появилось ни одного прохожего. Репетиция уже началась. Мартин встал, прошел немного вперед, опять прислушался. Голос молчал. Но Мартин не мог избавиться от ощущения, что он слышит и это молчание тоже, что оно где-то совсем близко, хотя и невозможно установить, где. Он постоял еще несколько минут, прошелся вперед и назад. Окна, в которых можно было различить только неподвижные занавески и кое-где листья комнатных растений, казались ему страшными и слишком большими. Мартин уже очень сильно опаздывал и, не зная, что еще предпринять, бросился бегом вперед, не оглядываясь.
Соломон
Издатели, с которыми сотрудничала библиотека, помогли Октавии собрать достаточно много материала для будущей книги – несколько нигде прежде не публиковавшихся рассказов, эссе, множество загадочных пленочных фотографий, акварелей и картин маслом. Ее знакомая учительница предложила десятому «В» написать сочинение на тему «Черемуха в цвету». Но Октавию не покидало чувство, что чего-то все еще не достает, чего-то неожиданного, может быть, даже сенсационного. Ей вспомнилось, как в …-ом классе она написала небольшой текст, посвященный пешеходно-урбанистическим проблемам своего города, и этот текст был опубликован в небольшой местной газете. Октавия была очень горда собой. Ее слова, напечатанные на мягкой бумаге грязного цвета, казались в таком виде по-новому убедительными, приобрели неожиданную солидность. Она принесла газету в школу и показала ее своей учительнице по литературе, госпоже Пульхерии. Для своей профессии она была поразительно равнодушна к чтению. После уроков она подозвала Октавию к себе и запанибратским тоном, который как бы давал понять, что мне-то ты можешь, дружок, довериться и сказать правду, спросила:
– Кто тебе написал эту статью, м?
Октавия не знала, что ответить. Предположение, что статью написала не она, было одновременно оскорбительным и лестным. С одной стороны, ее оскорбляло, что ее считали недостаточно умной для написанного, с другой, ей было лестно, что написанное считали настолько хорошим.
Прошло странно много времени с тех пор, как она получила последнее письмо Клавдия. Ее одиночество становилось все менее и менее комфортным. Однажды, по пути с работы, она подобрала у помойки грязного тощего котенка. Его мокрая шерстка торчала под мордочкой как седая бороденка. Октавия назвала его Соломоном.
Госпожа Мильтон появляться в библиотеке перестала. Октавия увидит ее еще только однажды, в гардеробе местной филармонии. Поймав ее взгляд, Октавия непроизвольно улыбнется, но госпожа Мильтон не ответит ей на этот раз даже улыбкой вежливости и отведет взгляд в сторону, не узнав Октавию или сделав вид, что не узнала. Через секунду к ней подойдет высокий мужчина среднего возраста и подаст ей пальто. Этим мужчиной окажется господин Удрилло. Он дотронется до локтя госпожи Мильтон тем же неприятно-навязчивым манером, каким обращался с Октавией в библиотеке. Госпожа Мильтон улыбнется в ответ так, словно ей это очень нравится.
Сочинение Кэнди из десятого «В» на тему «Черемуха в цвету»
Девяностодвухлетний Ромео знал, что дни восьмидесятивосьмилетней Джульетты сочтены. Он знал это еще до того, как один врач сказал: «Повезет, если протянет месяц!», а другой присвистнул и посоветовал радоваться, что она вообще до сих пор жива. Ромео радовался, а врач схлопотал тростью в ухо. Вообще-то старик был очень миролюбив и покладист, но к своим годам научился давать нахалам отпор.
Путь из больницы до дома пролегал через садик с буйно цветущей по весне черемухой, сейчас, как и все другие деревья, покачивающей сиротливо оголенными веточками. Джульетта попросила мужа остановиться. Он втайне этому порадовался – катить ее в инвалидном кресле ему было не так-то легко, хотя он и уверял ее в обратном.
– Помнишь, как здесь было красиво, когда мы только познакомились?
Ромео помнил. На следующий день он нанял бригаду рабочих и повез их на дачу, расположенную неподалеку от дома.
– Что будем строить, папаша?
Вместо ответа старик указал в сторону крепости из коробок с белой офисной бумагой, пары мешков ножниц и контейнера с нитками. Рабочие нерешительно приблизились к непривычным для них инструментам и в недоумении переглянулись. Бригадир покачал головой: «Спятил». Поднялся недовольный ропот.
Ромео замахал руками, призывая к тишине и вниманию. С таким выражением на лице, будто готовился продекламировать стихи, он поднял перед собой трость, словно дирижерскую палочку, и торжественно произнес:
– Мы будем делать цветы!
«Точно спятил», – решил бригадир, но аванс, довольно щедрый, был уже внесен, а по окончании работ было обещано еще столько же, так что отказываться было нельзя. Ромео достал лист бумаги, взял ножницы и, согнув лист пополам, вырезал несколько крошечных цветков с округлыми продолговатыми лепестками, затем вдел трясущейся рукой нитку в иголку и нанизал их все так, что получилось небольшое, удивительно изящное и реалистичное соцветие.
Все молчали. Лицо бригадира было мрачным, как дыра сортира, который им приходилось использовать. Ромео протянул ему новый лист и ножницы. Тот нехотя их принял. Громко пыхтя, он неуклюже проделал то же, что старик, и, положив свое соцветие в пустую коробку, велел всей бригаде приступать.
Две недели рабочие вырезали и сшивали бумажные цветы. Поначалу раздавалось много жалоб, как это бывает у детей, когда что-то не получается, но через несколько дней уже казалось, будто бригада только этим всегда и занималась. Коробок было столько, что их пришлось выставлять на крыльцо.
Ночью Ромео с рабочими заполнили ими дряхлый, но вместительный грузовик и отправились в город. У каждого черемухового дерева было установлено по несколько стремянок. Работать в перчатках было трудно, а без них холодно. Мужчины дышали в кулаки и согревались чаем в термосах. К утру все было готово. Ромео расплатился с рабочими и вернулся домой. Джульетта лежала в постели, мирно сложив на груди руки. От его прикосновения она проснулась.
– Который час?
– Еще рано. Я хочу кое-что тебе показать.
Ромео помог жене с привычными утренними процедурами, сделал инъекцию обезболивающего, напоил чаем, одел и повез ее на улицу. Оказавшись в зацветшем в ноябре черемуховом саду Джульетта не расплакалась, как ожидал Ромео. Она просто молчала и смотрела по сторонам. Было слышно, как она со свистом выдыхает воздух. Через две недели она умерла. Ромео прожил без нее еще год. Черемуха в их саду больше не растет, а любовь по-прежнему не спасает от смерти.
Ночная фиалка
Когда другие дети начали вытягиваться в длину, Мартин стал расти в основном в ширину. Очень толстым он никогда не станет, но и той неожиданной пухлости, которой он достиг к …-ти годам хватило, чтобы дать его одноклассникам новую пищу для издевательств. Впрочем, к этому времени общий градус травли уже ощутимо снизился. Над ним все еще, конечно, насмехались, но уже без прежнего энтузиазма. Враждебность к нему и ему подобным постепенно перерастала в незамечание. Что бы и как бы он ни сказал, его слова весили меньше и звучали тише, чем слова сильных, высоких и красивых мальчиков. Даже слова некоторых девочек имели более сильный эффект. Ему часто казалось это несправедливым, потому что свои мысли он почти всегда находил остроумнее, чем все то, что он слышал от популярных ребят. Тогда-то это и началось – ему стало гадко жить в мире этих популярных мальчиков и девочек, а таким и был почти весь мир вокруг. И он снова и снова возвращался к своим нежным цветам, к своим мирным улиткам, к своей тихо спящей в могиле матери, чье унижение никогда не перестанет терзать его и быть тем самым страшным и строгим свидетелем, который не позволит ему безнаказанно поступать дурно.
На новый год он получил от госпожи Лилии большую иллюстрированную книгу об уходе за комнатными растениями и теперь относился к ней так же, как к матери, когда та была жива, – доверительно и с раздражением. Он каждый вечер помогал ей готовить ужин, а Корнелиус снова стал ему чужим. Он знал, что, как женщина достаточно экстравагантная, она не откажет ему в помощи по внешнему преображению. Нужную краску для волос пришлось заказывать почтой. Его белокурые локоны прекрасно подходили для любых изменений. Госпожа Лилия назвала получившийся цвет «ночной фиалкой». В школе, конечно, не обошлось без неприятного внимания (Привет, Мальвина!» – это, кажется, последнее, что сказал ему Вон, сразу же смутившись; больше он не трогал его, ни в школе, ни за гаражами), но теперь Мартин был только рад лишнему подтверждению того, что еще сильнее отгородился от всех персонажей того мира, с которым он не хотел иметь ничего общего.
Школьный праздник
Но что-то общее все же оставалось. Как иначе можно объяснить хотя бы то, что проходили годы, а он не мог привыкнуть ко всем тем маленьким, обыденным пыткам, которые каждый день ожидали его в школе? Почему ему по-прежнему было важно преуспеть в том мире, который он теперь так гордо презирал? Он неуверенно шагал по заледеневшей утренней дорожке и прислушивался к отдающему эхом карканью ворон, которое смешивалось с искаженным далью гудением загадочных поездов и каким-то еще трудноуловимым, неопределимым звуком, который, казалось, исходил от самого воздуха, от каких-то спрятанных в нем материй, превращающих беспорядочные шумы в огромный слаженный оркестр. Мартин не понимал, как эта зазеркальная, магическая, сокровенная жизнь соотносится с необходимостью решать уравнения, здороваться с учителями и одноклассниками, прилюдно переобуваться (ступни были одним из самых интимных и уязвимых мест в его организме) в некрасивые поношенные кроссовки, снимать отвратительную пенку с молока в липком граненом стакане, который надо было брать с широкого металлического подноса в столовой под присмотром тучной, похожей на медсестру женщины, внушавшей ему ужас.
Он не понимал этого, пока однажды не остался вечером один в хорошо знакомом классе, изменившемся до неузнаваемости в отсутствии других школьников. Это был какой-то праздник – одно из тех мероприятий, на которых Мартин чувствовал себя еще более уязвимым, чем на уроках, так как единственная его защита, дисциплина, была по общему восторженному соглашению здесь почти полностью устранена. На улице шел снег и стоял аномальный холод. Отец должен был встретить его на машине, но отчего-то задерживался. Во всей школе кроме него только в отдаленной учительской еще оставалось несколько человек. В классе и коридорах был выключен свет. Мартину не было грустно или одиноко. Его завораживала тишина с легким камерным эхо, исходившим от каких-то щелчков и скрипов, доносящихся иногда из-за приоткрытой двери. Как будто кто-то, кто-то находящийся в темном углу одного из коридоров, ударял маленькой деревянной ложечкой по полым арахисовым скорлупкам. Было уже поздно. Каждый фонарь освещал небольшой участок снегопада с крупными, тяжелыми, оранжеватыми от лампочек, неспешно летящими по косой рыхлыми комками. Они появлялись из ниоткуда и туда же возвращались, существуя для него только в этих небольших световых промежутках, созданных изогнутыми, как голова гуся, головами фонарей. Так же возникла и пропала для него Кэти, девочка, проучившаяся в их классе всего лишь год. То же по сути происходило и со всеми (или почти со всеми) остальными людьми в его жизни.
Мартин вздрогнул, когда она вошла в темный класс. Она была такой маленькой, что умела передвигаться почти бесшумно. Наверно, ее родители тоже задерживались, и ее это, как и Мартина, скорее радовало, чем огорчало. Она подошла к окну и на некоторое время застыла. Он подумал, что сейчас, в этом странном месте, в это странное время, в темном пустом классе, свободные от необходимости что-то говорить, свободные вообще почти от любой необходимости, они похожи на забытых всеми и никому не нужных старичков или, может, на людей, совсем не имеющих возраста. Кэти взяла мел и стала что-то рисовать. Она водила по доске скрипучим острием очень уверенно, и Мартин ждал, что ему вот-вот станет понятно, что же она пытается изобразить, но никакие знакомые формы не складывались. Это продолжалось не долго, до тех пор, пока не послышался шум, после чего в класс вошли люди и увели Кэтти. На Мартина они не обратили внимания. Может быть, даже не заметили его. Можно было подумать, что этот вечер сделал его невидимым (по-настоящему, а не в социальном смысле). Но вскоре появился его отец, и стало очевидно, что это не так, потому что он смотрел прямо на Мартина, притом таким взглядом, будто тот был сам виноват в его опоздании. В дверях он оглянулся на доску и наконец понял, что пыталась нарисовать Кэти. Это были снежные хлопья, появляющиеся из ниоткуда и туда же возвращающиеся в небольших световых промежутках под изогнутыми головами фонарей. Глядя на них, Мартин вдруг понял, что и учителя, и одноклассники, и засохшая пенка на молоке в липких граненых стаканах когда-нибудь тоже станут частью этого зазеркалья, такие же красивые, как пустой школьный коридор вечером.
Прозрачные вещи
Чтобы выбрать подарок на день рождения Фи, Мартин, в сопровождении госпожи Лилии, поехал в другой город. Там был торговый центр с большим канцелярским отделом. Он знал, что Фи разделяет его страсть к ластикам с мутноватыми поверхностями, точилкам в форме глобуса, брелокам с водичкой, в которой плавают блестки, курсорам квартальных календарей и клеенчатым блокнотам с кремовыми страницами. Мартину эти вещи не просто казались красивыми, ему виделись в этих прозрачных субстанциях другие миры, по-настоящему другие. То есть такие, которые нельзя определить никакими словами. Можно только вглядываться в разнообразные формы, в которых они скрываются, и удивляться их притягательности. Он смотрел на них и думал о том, что магия прозрачных вещей состоит в том, что абсолютно прозрачными они не являются. Абсолютная прозрачность сделала бы их невидимыми. Так что более правильно было бы называть их слегка прозрачными или полупрозрачными, или, что то же самое, полунепрозрачными. Волшебство появлялось где-то посередине между двумя этими состояниями – абсолютной прозрачностью и абсолютной непрозрачностью. То, что в фантастических романах называли другими мирами, Мартина всегда крайне разочаровывало, потому что ничего по-настоящему другого в них никогда не было. Может быть, в ластиках и брелоках этого тоже не было, но по крайней мере они оставались безмолвны и не компрометировали себя пошлыми и унылыми сказками.
Родители Мартина всегда оставались людьми очень практичными и любили все «солидное», так что яркие, инфантильные, ненадежные вещи обладали для него также и привлекательностью запретного. Блестки и клеенчатые поверхности, за один взгляд на которые его могли осадить, теперь, благодаря его мачехе с более широкими взглядами, стали на несколько шагов доступнее.
У госпожи Лилии не было автомобиля, так что добирались они на автобусе. Мартин не видел в этом признака социальной ущербности или неудобства. Наоборот, он не понимал, почему этим неспешным, высоким, просторным машинам предпочитают такие мрачные клаустрофобные капсулы, как та, на которой всегда, даже когда это не было удобно, передвигался отец. Город, в котором они жили, был так мал, что необходимости во внутреннем транспорте почти никогда не возникало. Это делало их междугороднюю поездку еще интереснее. Когда с покупками было покончено, госпожа Лилия предложила зайти в куда-нибудь «выпить кофейку». Мартин бы никогда не посмел попросить ее о таком, так что был очень рад, что она сама этого захотела. Поход в кофейню не имел ничего общего с чаепитием дома. Это было беззаконным и безрассудным продлением знаменательных событий текущего дня. Это было праздником, трогающим до слез и незаслуженным подарком. Это было отсрочкой темного ночного забытья. Это было спасением от смерти.
Вечером, когда они возвращались, он стоял у окна и смотрел на другие автобусы. Все они были уютно освещены изнутри желтоватыми лампами. Когда один из них оказывался совсем близко, Мартин разглядывал сидящих в нем пассажиров и встречался с некоторыми из них глазами. И в этих пропущенных сквозь двойное стекло взглядах тоже было что-то другое. Оно было не в людях, не в автобусах и даже не в свете, а где-то между их заключением в этих притягательных прозрачных вещах и тем обстоятельством, что ничего, кроме краткосрочного взгляда, их не связывает и никогда не свяжет.
Кто-то из мужчин уступил госпоже Лилии место. Она была еще слишком молода, чтобы это можно было отнести к сострадательному уважению старости, так что, очевидно, ситуация имела гендерную подоплеку. На лице госпожи Лилии изобразилось замешательство. Принять этот жест с благодарностью казалось ей предательством своих убеждений, но и стоять рядом с освободившимся сидением было глупо, тем более что отдохнуть ей и правда очень хотелось. В конце концов она все-таки села, но с таким видом, будто чисто случайно оказалось рядом с незанятым креслом, не сказав «галантному незнакомцу» ни слова.
Куриный суп
Примерно в это же время Мартин пристрастился к долгим пешим прогулкам, компанию в которых ему составляли исключительно барочные композиторы. Он снова и снова слушал одни и те же треки из своей коллекции в шесть сиди-дисков. Среди них был один концерт для клавира и флейты с оркестром, который он слушал особенно часто. В нем было что-то жалкое, что-то почти непристойное в своей болезненной нежности и то самое серенькое, другое, о чем, казалось Мартину, знал только он и автор этого концерта.
Когда прогулка заводила его в людные места, ему всегда становилось неловко. Каждый прохожий, каждый случайный субъект в поле его зрения, даже самый неказистый, точно знал, куда и зачем идет. А Мартин знал это не всегда (вообще-то никогда не знал). Он «просто гулял». И было в этом что-то неприличное, почти постыдное. Ему приходилось заранее планировать все свои повороты направо и налево, все те маневры, которые позволяли добраться до пункта назначения, или точнее выбраться из мест, которые пунктом назначения не являлись, мимикрировать под всеобщую целеустремленность. Если ему это удавалось, всегда все же оставалась довольно высокая вероятность, что его выдадут глаза. Он слишком много им позволял. Вращал ими туда и сюда. Он был рассеян и неуместно заинтересован. По-настоящему целеустремленные люди, которые его окружали, рассматривали вокруг себя только отдельные предметы и только тогда, когда имели для этого достаточно веские причины – например, дыру в асфальте, когда возникала опасность в нее упасть, или ценники на витрине, когда возникала необходимость что-то купить. Мартин смотрел сразу на все, для него не существовало отдельных предметов. Иногда он тоже останавливался у стеклянных витрин и, напустив на себя серьезный вид, внимательно изучал ассортимент продукции, которая его совершенно не интересовала. Он слушал, как съежившаяся от старости бабушка с жемчугами на шапке угрюмо ворчит на вареную колбасу, и с пониманием кивал головой. Ему было приятно чувствовать себя частью чего-то большего, чем он сам.
Он исходил все улицы, все закоулки, все площади и все тупики в городе, и в его комоде сильно прибавилось фотографий с гаражами, сараями, дорогами, водонапорными башнями, линиями электропередач, резервуарами, брандмауэрами, деревьями и кустами. А точнее, фотографий того, как эти гаражи, сараи, дороги, водонапорные башни, линии электропередач, резервуары, брандмауэры, деревья и кусты расположились в пространстве относительно друг друга и некоторых атмосферных явлений. На одном из редких его кадров, в которые попадали люди, была выглядывающая из своего окна Матильда. На ней был лиловый пеньюар и засаленное боа. Она держала в руке с растущим поперек пальца ногтем засохшую розочку и едва заметно шевелила накрашенными губами, как будто что-то напевала или разговаривала с воображаемым собеседником. Она не видела, что он ее фотографирует. В тот день, когда Мартин сделал этот кадр, он вернулся домой и почувствовал с порога теплый куриный запах. Госпожа Лилия готовила суп.
– Голодный?
Мартин подумал, что, может быть, она тоже скоро умрет, и, перед тем как сесть со своей тарелкой за стол, очень хотел обнять ее или что-то в этом роде, но постеснялся и принялся молча хлебать суп.
Ко-ко
Одним из немногих воспоминаний о детском саде, которые Мартин сохранит на всю жизнь, было теплое летнее утро, когда он вместе с группой мальчиков стоял на заднем дворе и пытался как можно выше нарисовать на стене темное пятно струйкой мочи, но по неизвестной причине у него получалось значительно ниже, чем у всех остальных. Возможно, потом они будут учиться с ним в одном классе, а может быть, он никогда больше их не увидит, – в обоих случаях они навсегда останутся для него маленькими ухмыляющимися незнакомцами со спущенными штанами. Наверное, в тот момент он и потерял вкус к соревнованиям. Позднее он спрашивал себя: почему никто не замечает, что «веселые старты» веселы только для победителей? Почему их триумф важнее, чем его страх и его унижение? Почему никто не плачет от жалости к таким, как он? Эта мысль постепенно изменила те дали, в которые он уходил, когда терпел поражение или когда сидел один в ванной. Он больше не воображал себя героем, который всех спасает. Он мечтал о таком мире, в котором все одинаково слабы, и никому не приходит в голову считать это чем-то плохим. Он мечтал о таком мире, в котором герои невозможны. Он мечтал о том, чтобы культ героизма сменился культом нежности.
Он рассказал об этом Марии, когда они сидели в ее прохладной комнате на скрипучей кровати и пили пузырящийся черный чай. Мартин сделал фотографию с ее покрытыми маленькими темными волосками ногами, лежащими на бронзовой спинке и прикрытыми до середины щиколоток очередной ситцевой юбкой в мелкий цветочек. Она знала все это лучше него.
По старому лакированному паркету ее дома постоянно бегали цыплята, хотя ни одной взрослой курицы и ни одного петуха он здесь никогда не видел. Вся ее одежда была на несколько размеров больше, чем полагалось, так что когда Мартин решил примерить на себя белый свитер с рюшами на воротнике, он оказался ему впору. Мария спрыгнула с кровати и надела на себя растянутый горчичный пуловер Мартина. Они встали рядом перед большим мутноватым зеркалом и нервно захихикали. Мартин взял в руки массивную брошь в виде перекрученной ленты золотистого цвета и приладил ее к груди. Ему захотелось иметь целую коллекцию свитеров и брошей, только для того, чтобы каждый день совершать этот жест – прикалывать брошь к своему свитеру, чувствовать под пальцами, как она слегка провисает от тяжести на мягком, податливом трикотаже.