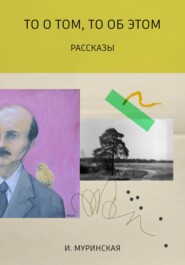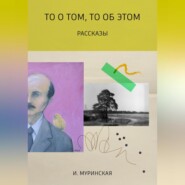По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мартин М.: Цветы моего детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она положила подбородок на руки, и ее лицо приняло тот отстраненный задумчивый вид, который бывает у всех стареющих людей, когда они обращаются к воспоминаниям, как будто весь опыт их жизни предстает перед ними разом.
– Вот такие персики собирали. Схватит и тянет в ротик. Я ему говорю, что же ты лижешь немытый? Дай вымою сначала. Так персики любил, солнышко мое, радость моя.
Мартин знал, что в их городе не растут персики, и ему показалось удивительным, что Эсмеральда не всегда была местной дворницей, которую считают ведьмой.
– А как заболел, все просил камешек ему под головочку положить. Камешки на море холодные были. Все повыбрасывали, когда сюда ехали. Так я ему капустный лист намочу и прижму к лобику.
Глаза Эсмеральды увлажнились. Мартин подумал про Матильду, как она так же при нем уходила в свои воспоминания, и как у нее так же, как у Эсмеральды, ничего в жизни не было, кроме воспоминаний о мертвых людях.
– Эй, а ну слезай, обедать иди!
Это был отец. Он стоял, одной рукой держа сигарету, другой подзывая Мартина, так далеко, как будто боялся подхватить от Эсмеральды какую-то заразу. Мартин хотел сказать ей что-нибудь, что излечило бы ее от горя, но таких слов у него не было. А еще больше ему хотелось дать ей понять, что он не такой, как его отец. Но все, что он мог сделать, это смотреть на нее, стараясь вложить в свой взгляд все свое сочувствие и продолжая по инерции слегка раскачиваться взад-вперед. Ее взгляд был направлен куда-то то сквозь него, сквозь все видимое. Мартин молча соскочил с тарзанки и поплелся к отцу. Эсмеральда осталась неподвижно стоять, опершись на метлу. На ее джинсах были вышиты голубые васильки, украшенные сверкающими стразами.
Туалет и ванная
В ванной Мартин переставал чувствовать ход времени. Стоило ему всего несколько минут постоять под струей горячей воды за закрытой на шпингалет дверью – и все болезненные связи с реальностью исчезали. Его мысли улетали туда, где им хотелось быть. Они вообще часто туда улетали, но в ванной с особым, бурным вдохновением. Как человека исключительно умного, всесторонне одаренного и неповторимо обаятельного, его интервьюировали восторженные журналисты, и его ответы превращались в долгие остроумные рассказы о своей удивительной жизни. Рассказы эти были про него, поэтому не могли не быть интересны. Иногда здесь начинались целые жизни, которые Мартин по несколько раз впоследствии переживал в различных вариациях. Безумный маньяк схватил его друзей и знакомых, привязал к стульям и уже почти начал убивать. Но вот Мартин, рискуя жизнью, ловко подкрадывается сзади и одним быстрым движением перерезает важную артерию на шее злоумышленника. В числе пленников – Клелия, Фи, Корнелиус, но в первую очередь он освобождает человека, которого по-настоящему любит, хотя он сам себе в этом еще не признается. Красивое, искаженное страхом и нежностью лицо Мартина красноречивее любых слов. Они ничего не говорят. Главное, что теперь они в безопасности. У них впереди уйма времени – целая вечность. Фи плачет. Клелия напугана, но сдержанна. Корнелиус, Вон и Августин молча признают его превосходство над собой. Мартин ведет себя скромно, как подобает герою. Если в такой момент кто-то стучал в дверь ванной, его всего передергивало. Это было похоже на пробуждение от пощечины.
– Ты уснул там, что ли? Давай выходи!
И он выходил.
Туалет, который находился в разных с ванной комнатах, также обладал для него особой притягательностью, связанной с уединением, но на другой манер. Если туда его звали сигналы, поступающие в мозг из пищеварительной системы, он всегда внутренне взбадривался и старался обставить все для себя наилучшим образом, что в основном заключалось в тайном проносе с собой в туалет какой-нибудь книги с большим количеством картинок. Книге следовало быть небольшого размера, чтобы ее можно было спрятать под футболкой, зафиксировав между животом и поясной резинкой трусов, и простого, умиротворяющего содержания, что способствовало облегчению и без того приятного процесса опорожнения кишечника. Краткие иллюстрированные энциклопедии «Деревья города» и «Цветы города» подходили для этого наилучшим образом. Стены в этом крошечном помещении были обклеены розовато-коричневыми обоями с абстрактными узорами, похожими на разорванную человеческую плоть или больную слизистую. В некоторых местах в этих пятнах и разводах Мартину виделись человеческие лица, фрагменты животных и фантастических существ. Непреднамеренность их бытия делала их значимость почти священной – они появились без его ведома, сами собой, и существовали для него одного.
Зазор
Сколько Мартин себя помнил, он всегда мечтал о велосипеде. Благодаря мальчику из первого подъезда, у которого, кажется, было все, он научился кататься. Мокля (так звали мальчика) был тучным курчавым человечком, который в свои …-ть лет больше походил на карлика, чем на ребенка. Его лоб выпирал из общей плоскости лица так сильно, что вместе с черными кудрями создавал у каждого, кто на него смотрел, стойкую ассоциацию с бизоном. Его пуговичный нос по какой-то причине не выполнял своей функции, так что дышал Мокля ртом, и его слюнявый пухлый рот всегда был задумчиво приоткрыт.
В один из первых настоящих весенних дней, когда снега уже почти нигде не было и асфальт в рытвинах был приветливо сух, Мартин увидел из окна гостиной отца верхом на зеленом «Аисте». Оказалось, он уже много лет лежал в их гаражном подвале. В тот же день они с Фи, у которого давно был новый «Астероид» с пятью скоростями, отправились в велотурне по любимым местам. У всех этих мест были кодовые названия, которые знали только они двое. Ноль ноль один – кряжистые дикие яблони рядом с домом Мартина, ноль ноль два – карьер, ноль ноль три – «стройка» (на которой никогда ничего не строилось), ноль ноль четыре – заброшенная промзона, ноль ноль пять – обычно пустующее футбольное поле с трибунами. Объездив все, они остановились отдохнуть на центральной площади. Кое-где еще лежал снег, сквозь который проглядывали размороженные собачьи фекалии. Город был безлюден и почти монохромен, если не считать нескольких мать-и-мачех перед Домом офицеров. Они положили велосипеды на землю и сели на лавку. Между ее деревянной серединой и бетонными подлокотниками серели грязные зазоры, в которые запихивали обертки, жвачку и семечковую кожуру. Мартин смотрел на такой зазор возле себя и думал, что никому не интересны подобные скромные малоприятные вещи. У этой грязной ямки с мусором даже нет настоящего названия. Он проникся такой нежностью к ней, что не заметил, как Фи встал и приготовился катиться дальше.
Коридор
Если бы Октавия уже не взялась писать книгу о черемухе, она бы написала книгу о слизнях. Однажды в детстве она услышала, как по телевизору в какой-то зоологической программе говорят о «секрете слизня». Она тогда ничего не знала о железах и секреции, и восприняла эти слова в том смысле, что у слизня есть какая-то тайна. Скорее всего, мрачная. Подобно улиткам, большинство сенсорных рецепторов слизней сконцентрированы вокруг головы.
Одним из самых ее светлых воспоминаний о матери были нарезанные кругляшками огурцы. Это до сих пор был ее любимый способ их есть. И она по-прежнему не могла себе позволить оставить на тарелке что-нибудь недоеденное. Так у них в семье было не принято. Вместе с герпесом и повышенным давлением мать наградила ее болезненным перфекционизмом. Удовлетворение от того, что в тарелке ничего не осталось и все было съедено точно рассчитанным образом, так что каждый ингредиент уменьшался в ней в одинаковом процентном соотношении, было гораздо важнее состояния желудка. Доли рта могут действовать как орган осязания, отличая различные поверхности. Все остальное в их совместной жизни, казалось, происходило таким образом, что ее родители всегда были в разных с ней помещениях. Вот канун нового года, Октавия смотрит из-за приоткрытой двери своей комнаты сквозь коридор на виднеющийся край елки в гостиной и слышит возгласы матери, колеблющиеся где-то между озабоченностью и раздражением. Вот утро выходного дня, и она смотрит на закрытую дверь той же гостиной, которая была по совместительству родительской спальней, и ничего не слышит, кроме легкого электрического треска в душном, пропущенным множество раз через легкие целой семьи воздухе. А вот летний вечер, все форточки в доме открыты, отец что-то читает, из кухонного окна льется теплый золотой свет, а она снова смотрит из своей комнаты, которую она делила с еще двумя сестрами, в конец коридора. С каждым новым подобным воспоминанием этот коридор становился все длиннее и длиннее, и ей приходилось спрашивать себя: как он мог быть таким длинным в такой тесной двухкомнатной квартире? Но отчего-то воспоминания от этого не только не теряли убедительности, а, напротив, утверждали себя как единственное, что в действительности имеет значение.
Октавия ясно помнила тот момент, когда она поняла, что родители ей чужие. Ей было около пяти лет. Тогда это пришло к ней в виде неясной бессловесной пустоты, пролегшей между ней и принадлежавшими почти всему остальному миру этими двумя, занимавшимися все время чем угодно, только не тем, что ее сколько-нибудь интересовало. Теперь она понимала, что лежало в центре этой пустоты – она не могла говорить с ними о смерти. Все детство она провела в ужасе от осознания собственной временнОй конечности. Она внимательно всматривалась в родителей, которых, казалось, это совершенно не беспокоит, и пыталась понять, что знают они такого, чего не знает она. Однажды она в отчаянии решилась задать этот вопрос напрямую матери, которую считала умнее отца.
– Что происходит с людьми, когда они умирают, мама?
Мать посмотрела на нее с изумлением и стала, к неожиданности для себя, сочинять что-то про «облака, на которых сидят старички и старушки и от счастья болтают ножками». Октавия была окончательно разочарована. Позже она, конечно, поняла, что весь фокус был в том, чтобы не думать об этом. Или думать, но не часто. Пусть это сквозит время от времени где-то на заднем плане бытовых забот, которые тоже, между прочим, довольно много значат. Может, даже больше, чем то, другое. Но она-то, она-то! Она не такая, как они. Она сознательная, обстоятельная, обреченная на осмысленное существование. Ей казалось тогда важным что-то для себя раз и навсегда решить и считать, что дела обстоят именно так и никак иначе. Так она и металась где-то внутри круга забытья, отчаяния и утешения, иногда испытывая все сразу, а иногда что-то одно в наибольшей степени, по той или иной причине, как правило, пустячной. Например, автобусный гул отчего нагонял отчаяние. А трамвайный звон, наоборот, утешал. Но и тогда, в лучшие из моментов, отчаяние всегда было где-то рядом, неизбежное, неотвратимое и чрезвычайно настойчивое. Октавия угрюмо скрывала от всех свои терзания и продолжала кое-как жить, то думая, то не думая обо всем этом. Что-то раз и навсегда решить и считать, что дела обстоят именно так и никак иначе, ей не удавалось. А иногда случалось что-то действительно другое. Парадигма сдвигалась, обдуманное прежде переставало иметь смысл, и ей казалось, что она поняла вообще все. Так бывало, когда, например, она думала о черемухе, о той черемухе, которой никогда не бывало в ее детской комнате. Или о нарезанных кругляшками огурцах. Или вообще ни о чем не думала, и это вдруг приходило к ней само собой, беспредметно. Эти просветы длились какие-то доли секунд. Спасительные доли. Были они и было все остальное.
Когда слизняк теряет одно из щупалец, они отрастают вновь.
Роза
Отец никогда не говорил о матери. Мартин вспоминал его лицо во время похорон и пытался понять, что оно выражало. Можно было подумать, что он вообще не заметил ее исчезновения. Корнелиус тоже ничего не говорил о ней, только стал еще реже появляться в квартире. Казалось, над их домом повисла какая-то мрачная тайна, о которой нужно молчать.
Тревожных воспоминаний о том, как он бывал недостаточно отзывчив, становилось все больше, и Мартин решил что-то сделать для нее хотя бы теперь. Он достал из шкафа большой пакет со старыми черно-белыми фотографиями и принялся отбирать те, на которых была мать. Потом он выбрал несколько удачных цветных фотографий с ней из альбомов и расположил их в хронологическом порядке. Он сшил тетрадки из плотной желтоватой бумаги, лежавшей в том же шкафу, и склеил их в один альбом. В качестве обложки он использовал картон от своего прошлогоднего школьного дневника, обтянув его ее старым кашемировым шарфиком, распустившимся по краям и поеденным молью. На первой странице он написал акварельными красками красную розу. Но этого показалось ему мало, и он отправился на рынок рядом с главной площадью. Здесь продавали настоящие розы. Стоили они дороже, чем Мартин ожидал. Если б он попросил денег у отца, тот поинтересовался бы: «Зачем?», – а это был сюрприз. Тогда он вспомнил, что Матильда выращивает розы у себя перед домом. Оказавшись возле ее маленького садика, Мартин замешкался. Можно было бы просто объяснить все Матильде, и она наверняка сама бы сорвала для него цветок. Но он был скован той мрачной тайной, которая висела над их домом, и ему было неловко говорить о матери с кем-то еще. Так что Мартин огляделся по сторонам и трясущимися руками не без труда оторвал маленькую кустовую розочку чайного цвета, стараясь не повредить остальные цветки. Он положил ее под рубашку, где она больно колола ему грудь, но меньше мялась, чем в кармане. Дома он положил ее между газетными листами под толстую кипу книг. Он знал, что чем более цветок крупный и мясистый, тем чаще следует менять газету. На засушку розы ушло три дня. Мартин вклеил фотографии в альбом, подписав там, где знал, даты и места. На последней странице он нарисовал ее портрет тем карандашиком с цветными грифелями, который она ему когда-то подарила. Розу он вложил между этой страницей и обложкой. Сразу после ужина, когда отец и Корнелиус еще были вместе на кухне, Мартин устроил презентацию альбома: положил его на стол и стал торжественно переворачивать страницы. Корнелиус, кажется, даже не посмотрел на него, вышел из-за стола и принялся собираться, чтобы снова куда-то уйти. Отец нахмурился.
– Лучше б уроки делал! Ерундой всякой занимаешься.
У Мартина защекотало в глазах. Он схватил альбом и бросился в свою комнату, громко хлопнув дверью.
– Похлопай мне еще!
Сперва Мартин был поглощен обидой. Потом он почувствовал злость, и внезапно ему открылась разгадка их мрачной тайны: отец не горевал по матери, он не любил ее, ее смерть была для него облегчением.
Фредерик М.
Каждый день Фредерик М. вставал в шесть утра, добегал до единственной в городе спортивной площадки и совершал свои регулярные ритуалы кручения, отжимания, подтягивания, сгибания, растягивания, поднятия и опускания. Все это он проделывал так, как будто это не только не требовало от него никаких усилий, а как если бы, напротив, только в эти моменты он и оказывался, наконец, в своем наиболее комфортном и легком состоянии. Чувство того, как под кожей сокращаются и напрягаются мышцы, вызывало в нем почти сексуальное наслаждение. Ему невыразимо нравилось ощущать, как его тело томится и изнывает, доходя до пределов своих возможностей. Он был весь эти мышцы – сильные, крепкие, красивые, потные. Он был счастлив.
Затем он добегал до своей части, принимал душ, переодевался и вспоминал о Мартине. И больше не чувствовал себя ни сильным, ни красивым, ни счастливым. Фредерику хотелось думать, что его сын просто испорчен, что ему не хватает дисциплины. Немного военной муштры – и вся это девчачья дурь выбьется у него из головы. Однако что-то все время пыталось просочиться сквозь эти, такие же крепкие и мужественные, как он сам, мысли, выползти против его воли на поверхность, к сознанию. Что-то темное, что-то мучительное, сидящее где-то очень глубоко внутри него, что-то неподконтрольное ему, что-то постыдное и неприличное. Это был страх. Фредерик боялся своего сына, и боялся этого страха, который тихонько клокотал и булькал, подобно маленькому смердящему болотцу, где-то в самой сердцевине его могучего туловища. Почему-то на этом месте ему всегда вспоминалась жена, а следом целая череда неясных, тяжелых, болезненных импульсов пробегала холодными волнами через все его атлетическое тело, и он решительно отпрыгивал от них куда-нибудь в сторону. Например, в сторону сальных шуточек в кругу любимых сослуживцев или в сторону веселого подтрунивания над самым нерадивым из них, что, если взглянуть с точки зрения последнего, было, конечно, совсем не весельем, а жестокой и бессмысленной травлей.
– Эй, Робби, как твое здоровье? Я у твоей жены вчера забыл спросить.
Единственной разницей между той травлей, которой Робби подвергался в школьные годы, и той, которую он переживал сейчас, было то, что отчего-то теперь ему приходилось притворяться, что все в порядке, что ему тоже кажется это забавным. Фредерик не задумывался о чувствах Робби. Работа была тем местом, где о таких вещах можно было не беспокоиться. Здесь он был очень важен, успешен и уверен в себе, и эта уверенность была для него жизненно необходима.
Первое сентября-2
Так повелось, что в каждом новом учебном году нужно было выбрать себе место за партой, которое останется за тобой по крайней мере до следующего года. Мартин начал думать об этом еще в июне. В августе, за два дня до первого сентября, он, ужасно сконфуженный, решился задать Фи вопрос:
– Может, будем сидеть вместе? Ну, в школе…
Фи задумался всего на секунду и к огромному облегчению Мартина спокойно ответил:
– Давай.
Они лежали на теплой крыше заброшенного склада, и не видели лиц друг друга, но Мартин знал, что Фи улыбается, как и он.
В последние месяцы Фи и Сигма уже не держались в школе все время вместе. В столовой Фи сидел рядом с Мартином. Иногда к ним присоединялась Клелия. Теперь Мартин никогда не смог бы спутать Фи с Сигмой. Кожа Фи была более тонкой, чем у его брата-близнеца, совсем прозрачной на веках. Его руки были немного тоньше. У него всегда был идеально ровный пробор и он всегда ходил и двигался со своей особой, немного аутичной грацией, которой не было у Сигмы. Особенно заметным это становилось, когда Фи проявлял к чему-то интерес или начинал нервничать. Тогда его правое плечо становилось выше левого, и вообще все его туловище как-то странно перекашивало, как старый платяной шкаф, перегруженный вещами.
Им досталась третья парта в первом ряду, возле окна. Они показывали друг другу новые рюкзаки, ручки, карандаши, ластики, точилки, линейки, пеналы, дневники, тетради и обложки для них, любовно выбранные на одном и том же рынке накануне. Все было красивым, чистым и праздничным, и Мартин страшно волновался, что чья-нибудь грубость разрушит их трепетную канцелярскую идиллию. Но ничего не случилось. Как будто на всех вокруг еще лежал отблеск долгого вольного лета, и они еще не успели войти в свои враждебно-оборонительные роли. Даже Вон казался мечтательным и добрым, а госпожа Дездемона все время улыбалась и нюхала завернутые в шелестящую бумагу астры.
Перфокарты
Мать постоянно приносила с работы неиспользованные перфокарты. Мартин рисовал на них шариковой ручкой антропоморфных кроликов и белок. Несколько раз она брала его с собой в большой кабинет, в котором за отдельными столами сидели еще пять или шесть женщин. Главной целью этих посещений был для него дырокол. Если он не был полон, можно было попросить еще неиспользованных перфокарт. Затем Мартину разрешалось выйти на балкон и устроить бумажный снегопад. Белые кружочки летели на землю с третьего этажа, а он стоял на цыпочках, едва доставая взглядом до края бетонной перегородки, и смотрел, как они кружатся, в неизменном восторге.
Теперь у него были листы для акварели и записные книжки, в которых можно было рисовать, а перфокарты никто больше не приносил. Но у него все еще хранилось около двадцати штук в шкафу с другими бумагами. Когда он увидел, как Корнелиус бросает их в корзину для мусора, он пришел в ужас, но виду не подал. Вечером, когда Корнелиус ушел, Мартин достал их и положил в большую коробку из-под обуви, в которой хранил свой дневник, альбомы с гербарием и рисунки. Сперва он хотел изобразить на них что-нибудь, посвященное матери, но, в конце концов, найдя все свои идеи недостойными такого случая, решил оставить их пустыми.
Грипп
Вон стоял между газетным ларьком и зданием почты в расстегнутой куртке и сжимал в голой руке снежок. Его серебристо-русые волосы казались зеленоватыми в свете фонаря. Все знали, что ходить зимой без шапки и вообще одеваться как можно легче – признак силы и независимости. Мартин этими свойствами не обладал. Мать всегда заставляла его одеваться теплее, чем ему бы хотелось, а теперь он одевался так по привычке и еще потому, что без шапки у него замерзали и болели уши. Он невольно залюбовался Воном, хотя и знал, что снежок предназначался ему. После первого попадания (в голову) он попытался утешить себя мыслью, что это всего лишь игра и ему не сделали ничего плохого, хотя он и не хотел принимать участия в этой игре, а от удара было очень больно. Он попытался ответить Вону тем же, но промахнулся, а когда попытался увернуться от следующего снежка, поскользнулся и растянулся на снегу, вызвав дружный взрыв смеха. К счастью, нашлись те, кому, кажется, эта игра нравилась, и внимание Вона переключилось на них, так что Мартин смог незаметно уйти, и до дома его не преследовали.
Фи вместе с Сигмой в это время болели гриппом. Посещать их не разрешалось. Каждый день Мартин звонил Фи по телефону, чтобы передать домашнее задание. Шестизначный номер он помнил наизусть, потому что набирал на диске только его. Обычно трубку брала мать Фи.
– Алло.
– Здравствуйте. Можно Фи?