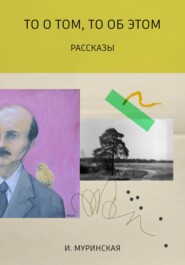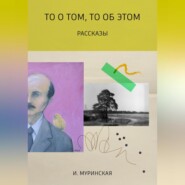По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мартин М.: Цветы моего детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Карьер
Близнецы Сигма и Фи походили на ухоженных собак дорогой породы. Они никогда не смеялись слишком громко (возможно, не смеялись вообще), не участвовали в склоках, учились не блестяще, но стабильно хорошо, одевались в одинаковую одежду чрезвычайно опрятного вида и никогда не подвергались нападкам даже самых злых задир. В школе они всегда держались вместе, но на лучших друзей похожи не были, скорее как бы на единый организм. Так, Мартин был крайне удивлен, когда прогуливаясь после уроков у карьера, застал одного из них сидящим на берегу в одиночестве. Должно быть, близнец привык к тому, что никто не различает их с братом, поэтому поспешил представиться:
– Я Фи.
– О. Привет, – ответил Мартин.
И тут же покраснел. Но Фи не смутился. На костлявых коленях у него лежала открытая книга с какими-то стихами. А рядом на парапете – «Робинзон Крузо». Мартин долго переминался с ноги на ногу, не зная, куда себя деть, а Фи смотрел на него своими удлиненными, почти черными глазами. Наконец, Фи шевельнулся, как будто что-то вспомнил, и, достав из кармана какой-то предмет, протянул его на открытой ладони Мартину. Он приблизился и немного наклонился вперед. На ладони Фи лежал переливчатый кристалл сложной формы.
– Это опал, – пояснил Фи.
– О, – ответил Мартин.
Он подумал, что еще никогда не слышал, как Фи говорит о чем-то, кроме предметов школьных заданий. Он тоже сел на парапет – достаточно близко к Фи, чтобы продолжать разговаривать, и достаточно далеко, чтобы, если Фи решит уйти, можно было сделать вид, что Мартин сел не к нему, а просто так, сам по себе. Из книжек у него с собой были только школьные учебники и никаких предметов, которые можно было бы показать, кроме фотоаппарата, но Мартин не был уверен, что это интересно. Он постарался придать своей позе развязность, с которой держались многие старшеклассники, но только смутился еще больше. Чтобы скрыть это, он зачерпнул горсть мелких камушек у себя из-под ног и стал бросать их в воду. Фи вернулся к своей книге. Камушки в руке у Мартина закончились и ему показалось, что Фи больше не помнит о его присутствии, но внезапно, не отрывая глаз от книги, он снова обратился к Мартину:
– Ты читал «Робинзона Крузо»?
– Нет.
Фи протянул ему лежавшую возле него книгу, примерно так же, как прежде кристалл опала. Мартин взял ее, положил к себе на колени и снова так разволновался, что около минуты таращился на обложку, словно не знал, что ему с ней делать.
– Я дочитал сегодня, – как будто попытался дать подсказку Фи.
Мартин спохватился и открыл первую страницу, но еще какое-то время не мог сосредоточиться на чтении. Стараясь не шевелить головой, он перевел взгляд на Фи. Тот смотрел в книгу, быстро двигая зрачками. У него были удивительно густые ресницы и светлая, почти прозрачная кожа на лице. Мартину понравился «Робинзон Крузо», но еще больше ему нравилось, что они сидят с Фи на карьере вдвоем, в непривычной близости, и ничего друг от друга не ждут, каждый занятый своим делом. На голой коленке Фи с такой же нежной кожей, как и на лице, была небольшая рана с темно-бурой корочкой запекшейся крови. Глядя на нее, Мартин мысленно ощутил, какая она твердая и шершавая на ощупь.
Ревность
Его последнее воспоминание о матери было связано с Гретой. Сестра матери, Карла, приехала, чтобы помочь ухаживать за ней, когда та уже почти не поднималась с постели. Грета была ее дочерью, зачем приехала она – непонятно. Ей было всего на три года больше, чем Мартину, но вела она себя так, будто он младенец, а она умудренная жизнью взрослая женщина. Когда они с отцом втащили чемоданы в дом, Грета преувеличенно умильным тоном, наклонившись вперед всем туловищем (что было совершенно необязательно – они с Мартином были почти одного роста), воскликнула:
– Кто у нас тут такой взрослый!
В основном она занималась тем, что наносила на свои длинные черные волосы какие-то липкие субстанции, принимала ванны, смотрела телевизор и говорила по телефону. С собой она привезла целый чемодан одежды и толстую записную книжку с набранными курсивом буквами на обложке: «Все женщины по сути ангелы, но когда им ломают крылья, приходится летать на метле!» Всю работу по уходу за больной выполняла Карла. Однако Грета любила произносить фразы вроде «мы были так рады возможности помочь» или «что бы вы одни без нас делали». Она очень собой гордилась. Отца в те дни Мартин вообще не помнил где-то поблизости.
Состояние матери тогда очень резко ухудшилось. Приходилось без конца менять ей пеленки и делать обезболивающие инъекции, пока однажды на рассвете все в доме не проснулись от ее срывающегося крика. Карла сделала ей укол, но это было бесполезно. Грета встала на колени у ее кровати, и мать крепко сжала ее руки. Мартин сел на кровать рядом с Гретой и неуклюже погладил мать по голове, но она как будто вовсе не замечала его. Ее умоляющий, горестный взгляд был прикован к Грете, пока не потух после нескольких резких судорог, всколыхнувших ее измученное тело. Все, что чувствовал Мартин в тот момент, – ревность и злость к глупой Грете.
Похороны
Мартину было стыдно оттого, что он не мог заставить себя убиваться по матери. Еще более стыдно было оттого, что ему очень нравилось находиться ранним пасмурным утром на кладбище, смотреть на шелестящие деревья, чувствовать, как от покрытой росой травы веет свежестью. Людей на похоронах было не много. Ему показалось, что Карла – единственная, кто искренне горюет по умершей. Остальным как будто было просто скучно. И уж точно никто не думал, как он, о том, как хорошо, что мать хоронят в таком красивом месте. Ему стало еще больше стыдно, когда он забылся и стал с удовольствием размышлять о том, как хорошо было бы устроить сейчас пикник, выпить какао (они так редко пили какао!), съесть пирожок с вишневой начинкой. Его желудок откликнулся жалобным урчанием. Гроб был закрыт. Наверно, так было дешевле. Мартин понимал, что его матери больше не нужен кислород, но никак не мог отделаться от ощущения, что она задыхается и что ей крайне неудобно в этом маленьком тесном ящике.
Фантазии
Октавия снова и снова прокручивала в голове тот момент, в котором она и некоторый идеальный «он», минув огромное множество фантастических перипетий, впервые раскрывают друг другу свои самые страстные и возвышенные чувства. Детали внутри этого сюжета могли меняться – появлялись новые остроумные фразы, «он» становился то брюнетом, то блондином, они по-разному друг к другу прикасались, но фабула в общих чертах оставалась одной и той же.
– Я так долго этого хотел… – говорил он, и от этих слов у нее заходилось сердце.
Продолжения у этой истории не было. Иногда она пыталась представить, как они занимаются сексом, но все то, что казалось ей сексуальным, было недостаточно возвышенно, а все возвышенное оказывалось недостаточно сексуальным, так что эта линия всегда оставалась где-то на уровне неясных набросков, и ее мыль возвращалась обратно, к ее любимому моменту обнаружения взаимного желания. Как будто у каждого органа в ее теле был собственный способ любить, и между собой эти способы не только не сообщались, но и не очень удачно сочетались. И только в этом моменте, краткосрочном моменте признания, все они, наконец, объединялись в общем экстатическом трепете.
Были и другие сюжеты, уже не про «него» (хотя все же в основном хотя бы отчасти про «него»), много других сюжетов! Этот воображаемый мир вряд ли можно было бы назвать мечтами. Она вообще никак не связывала его с тем, что оставалось за его пределами. Это была ее параллельная, скрытая от посторонних жизнь, абсолютно самодостаточная и намного более ценная и захватывающая, чем та другая, «реальная», та, которую ей приходилось вести по необходимости. Она никогда не пыталась переносить пережитое ей там на бумагу. Хорошо писать у нее выходило только в посланиях Кдавдию. Эти мысли были ее самым сокровенным секретом – и самым постыдным. Она скорее бы призналась, как часто занимается мастурбацией и какие порнографические сюжеты ее возбуждают, чем раскрыла бы кому-нибудь детали этих фантазий.
Автобус
Школьный автобус вез их в Большой город на театральное представление. Спектакль был из программы по литературе, возможно хороший, но сам по себе интересовал Мартина очень мало. Что его действительно волновало, так это все те маленькие приключения и ритуалы, которые придавали событию праздничную торжественность, – пестрые наряды других детей, посещение перед спектаклем кафе, возможность находиться так далеко от дома без родителей. Он с замиранием сердца представлял себе таинственный полумрак театрального зала, бесшумное движение тяжелого занавеса и тот волшебный момент, когда вместе с плавным затуханием света наступает трепещущая тишина. А еще лучше всего этого была возможность сидеть в автобусе у окна и разглядывать проносившиеся мимо пейзажи – поля, леса, дачные поселки и, наконец, монументальные конструкции Большого города. В основном это были памятники прошлой эпохи, о которой у него были довольно смутные сведения: высокие здания, похожие на дворцы, гротескные скульптуры и неработающие фонтаны. То, что по замыслу создателей должно было, вероятно, внушать торжественный ужас и патриотический экстаз, вызывало у Мартина прямо противоположные чувства. Все эти огромные колоннады с колосьями и шпилями отзывались в нем тихой болезненной грустью, походившей на ностальгию по обширной и важной части прошлого, которое на самом деле ему не принадлежало. Это была еще одна даль, в которую его мучительно, трагически влекло, однако реальное достижение ее не представлялось ни желанным, ни возможным. В барельефах со свиньями и массивных белых стенах с пилястрами не было ни капли иронии – казалось, что все это построили дети, такие наивные, простодушные и жестокие, такие, каким сам Мартин никогда не был.
Хотя он и проводил много времени с Фи после уроков, в школе близнецы продолжали держаться вместе, и теперь сидели рядом. Клелия тоже была здесь, она сидела с одноклассницей. Мартин ни за что бы не посмел предъявить какие-то права на внимание этих людей. То, что хотя бы изредка, за неимением общества и занятия получше, они проводили с ним время, уже казалось ему гораздо большим, чем он заслуживал. Так что сидя у окна рядом с тихим незнакомым мальчиком, которого уже дважды за время дороги стошнило в прозрачный целлофановый пакет, он был вполне доволен.
Примечательным в таких поездках, случавшихся один-два раза в год, было то, что и школьники, и учителя как бы теряли то напряжение между ними, которое заставляло госпожу Дездемону сминать листок с контрольной Вона и бросать ему в лицо, а Вона – называть Мартина вонючкой и больно толкать плечом в коридоре. Во время этого всеобщего размягчения хотелось верить, что так теперь будет всегда, чего, конечно, не происходило. Казалось, например, возможным подойти к Вону и заговорить с ним по-дружески. Но Мартин не искушал судьбу. Да ему и не хотелось разговаривать с Воном. Самой этой возможности, того, что никто его не трогает, меняющихся картинок за окном и присутствия людей, которых он тайно и робко обожал, было достаточно, чтобы чувствовать себя головокружительно счастливым.
Руки
В первые холодные дни осени руки Мартина, на тыльной стороне ладоней, становились красными и затвердевшими. Иногда кожа трескалась и выступало немного крови. Это было похоже на ожидание праздника. Мартин сидел в ванной на корточках, смотрел на обветренную кожу и представлял, что он измученный странник. Он долго шел через пустынную, глубоко промерзшую землю, героически переносил холод и усталость, нашел краткое пристанище здесь и скоро снова отправится в дорогу. Потому что такова его судьба, так велит ему сердце, таков его путь.
Пират
Он приводил Фи в свои любимые места – окраины с гудящими линиями электропередачи и заброшенными складами, стал делать те же фотоснимки, что и раньше, только с Фи, в основном со спины. Стоял сырой ноябрьский полдень, когда они шли по одному из таких мест, тыча перед собой длинными палками, как будто слепые. Вдруг Фи остановился и указал клюкой на что-то впереди, между рядами гаражей и сараев:
– Смотри!
Мартин тоже остановился и увидел что-то черное и бесформенное. Прошло полминуты, он уже почти утратил интерес, как вдруг неопознанный предмет задергался. Мартин и Фи вздрогнули, убежать и подойти ближе хотелось одинаково сильно, но признаться в страхе друг другу было стыдно, так что они стали медленно приближаться к загадочному объекту, держа перед собой палки, как будто штыки для защиты. Подойдя достаточно близко, они смогли рассмотреть завязанный веревкой мешок, который не только шевелился, но и тихонько скулил. Фи слегка ткнул его палкой, отчего мешок взвыл и задрожал. Мартин отстранил палку Фи и развязал веревку. Из мешка выскользнул серый лохматый щенок с черными глазами-бусинами и прижатыми от страха ушами. Мартин не верил своему счастью. Он медленно наклонился и осторожно погладил щенка, который все еще дрожал и тихонько пищал, а потом взял его на руки и укрыл курткой.
У них еще оставались деньги от сданных в магазин бутылок, которые они собирали всю прошлую неделю. Этого хватило, чтобы купить кусок вареной колбасы и пакет молока для Пирата (имя придумал Фи, Мартин был не против). Вечером они устроили для него ночлег в заброшенном доме из старого покрывала, которое нашли на помойке. На следующее утро они встретились там перед школой, чего никогда не делали прежде, чтобы отдать Пирату половину своих пайков. Он выбежал им навстречу, радостно виляя хвостом. Примерно через месяц Пирата уже знали во всем городе. Его всюду подкармливали и ласкали как домашнего. Мартин много думал о его странном положении. Оно было вроде бы лучше, чем у любой другой выброшенной собаки, но и не так хорошо, как у собаки домашней. Еда и теплое место в любом подъезде были ему обеспечены. Но при этом он все же оставался бездомным псом. Было ли Пирату в самом деле от этого плохо, или плохо от этого было только Мартину, оставалось неясным.
Карандаш
Тоска по матери пришла к нему в виде воспоминания о скромном подарке, который она однажды сделала ему без всякого повода. В тот день отец повез его на хоккей в Большой город. Мартин не любил спорт, но отец с таким энтузиазмом преподнес ему эти билеты, что он стал радоваться предстоящей поездке вместе с ним, хотя получить удовольствия от игры все же не смог. Слишком большое беспокойство внушали ему буйные крики мужчин с перекошенными лицами на трибунах. Зато после матча отец повел его в торговый центр, в котором Мартин был одарен с большой щедростью, что случалось не часто. Он получил новый рюкзак, новый спортивный костюм, набор канцелярских принадлежностей и большую астрономическую энциклопедию с выпуклым пластиковым Сатурном на обложке. Домой они возвращались поздно вечером. Мать накормила их ужином. Когда перед сном Мартин рассматривал свои обновки, она подошла и, не глядя на него, протянула ему причудливый карандаш, состоявший из множества разных грифелей, которые можно было переставлять в зависимости от того, какой цвет был нужен.
– Купила тебе такую штучку. Не знаю, нужно тебе такое? – и перед тем как передать ему карандаш, она повертела его в руках небрежно и немного неловко, как будто смущалась или даже стыдилась своего маленького подарка без повода. Ее смущение передалось Мартину, и он тогда смог только едва заметно улыбнуться и пролепетать «спасибо».
Что она делала весь день, пока их не было дома? Ему хотелось вернуться в это мгновение и дать ей понять, что ее пустячный презент значил для него гораздо больше, чем все, что купил ему тогда уверенный в себе отец.
Дуэт
Мартин часто видел Клелию в компании подростков ее возраста, и каждый раз его удивляло и возмущало, что они так запросто пользуются ее компанией, непринужденно разговаривают с ней, заставляют ее улыбаться. Ему казалось очевидным, что они не достойны и секунды ее общества. Они со своей кошмарной музыкой и обезьяньей агрессией были обыкновенными подростками, то есть, пожалуй, самыми гнусными представителями человечества, и она никак не могла быть одной из них. Он и сам был ее недостоин, но хотя бы понимал это.
Клелия тоже училась в музыкальной школе (одной на весь город). Однажды, в результате какого-то немыслимого стечения обстоятельств, они были поставлены в дуэт играть сонату ми минор Моцарта. Мартин исполнял партию фортепиано, Клелия – скрипки. Мартин понимал, что он вообще-то далеко не худший ученик школы, но все же музицировать вместе с Клелией, чья игра казалась ему недосягаемо совершенной и представлялась священнодействием, в огромной степени превосходило то, чего он, как ему казалось, заслуживал. Однако в совместной работе это забывалось, удовольствие от положительных результатов как бы уравнивало их.
После репетиций они часто шли домой вместе, им было по пути. Иногда они могли не сказать за всю дорогу ни слова, и это было лучше всего, потому что если Мартину приходилось говорить, он страшно волновался о том, что скажет что-то не то. Клелия это понимала и ласково, немного снисходительно улыбалась ему, а он думал, что не достоин даже ее снисхождения.
Расставшись с Клелией в очередной раз возле ее дома, Мартин внезапно понял, в чем состоит уникальность их отношений: в ее присутствии он переставал бояться смерти.
Сервант
Мартин шел по самому оживленному месту в их городе – площади с бронзовым бюстом, слегка размахивая пакетом с батоном и десятком яиц. Снег еще не выпал, хотя была уже середина декабря. Моросил холодный дождик. Фонари отражались в лужах и создавали сумеречное зарево. В центре площади стояла конусообразная пластиковая елка с красными шарами и разноцветными огоньками. Другие люди тоже что-то несли в пакетах, пересекая площадь. Мартин ощутил себя частью каких-то общих праздничных забот, и на душе у него потеплело. Дома это чувство его покинуло. Отец сделал яичницу, которую они молча съели перед телевизором. На экране рассказывали про какие-то преступления под тревожную электронную музыку. Мартин помыл свою тарелку и вышел из кухни, оставив отца одного. В остальных комнатах стояла печальная тишина. Мартин застыл посреди темной гостиной и ему вспомнилось, как в это время, за пару недель до нового года, его мать всегда ставила здесь два таза с теплой водой – один с мыльной, другой с обычной, и два табурета. Вместе они перемывали каждый предмет в запылившемся за год серванте – хрустальные бокалы, фарфоровые чашечки и блюдца из нескольких нарядных сервизов, которыми они пользовались только по праздникам.
Мартину стало настолько тоскливо в этой пустой комнате, что он решил вернуться на кухню, посидеть немного рядом с отцом, который смотрел передачу о каких-то преступлениях. Отец громко прихлебывал чай из большой кружки, сидя на диванчике с атлетически прямой спиной. Сложно сказать, следил ли он за происходящим на экране, или был погружен в свои мысли и ничего не видел перед собой. Мартин помыл его тарелку и сел рядом, прижав колени к груди. Передача о преступлениях закончилась, началась реклама. Отец все так же сидел, вперив взгляд в телевизор. Мартину хотелось спросить, будет ли у них на этот Новый год елка, у них всегда была настоящая елка на Новый год, но вместо этого продолжал молча смотреть рекламу, как завороженный.
– Уроки сделал? – отец как будто только сейчас заметил Мартина возле себя.
– Сделал, – ответил Мартин и почему-то понял, что не будет у них на этот новый год ни елки, ни сельди под шубой, ни бенгальских огней. По телевизору начались новости. Отец прибавил громкости. Он вовсе не был глуховат (Мартин проверял это несколько раз, специально обращаясь к нему чрезвычайно тихо), но отчего-то любил смотреть телевизор на почти болезненной громкости. Мартину сделалось еще тоскливее, чем было до этого одному в пустой комнате. Он немного посидел, надеясь, что отец что-нибудь скажет или сделает, но этого не случилось. Тогда он отправился в ванную, набрал два таза с теплой водой, один с мыльной, другой с обычной, поставил их в гостиной и тщательно перемыл все хрустальные бокалы, фарфоровые чашечки и блюдца из запылившегося за год серванта.