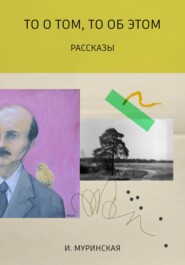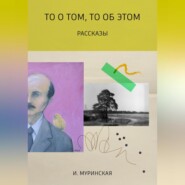По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мартин М.: Цветы моего детства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фи еще никогда не говорил с ним в таком тоне. Мартина поразил этот внезапный поворот. Ему показалось, что он летит вниз с огромной, быстро возрастающей скоростью, а внутри него поднимается какая-то волна, похожая на ядерный гриб. Он не мог и не хотел ответить ему тем же. Он ведь всегда знал, что недостоин этой дружбы, так чего же он удивляется. И обижаться не было причин, ведь Фи ничего ему никогда не обещал. Но эти рассуждения не помогали, и Мартин опустил зардевшееся лицо, стараясь скрыть навернувшиеся слезы. Фи очень испугался того, что сделал, и сразу постарался замаскировать всплеск раздражения под шутливую развязность.
– Ну ладно, чего ты. Я просто обещал отцу помочь с машиной. Погуляем на следующей неделе, ладно?
Мартину было неловко смотреть, как Фи привирает в поисках предлога, так что он покладисто улыбнулся и тихо ответил:
– Ладно.
Ария
Мартин, его отец и госпожа Лилия сидели в пышном зале на обитых красным бархатом креслах и слушали трагичную барочную арию в исполнении знаменитой зарубежной артистки. Концерт шел с аншлагом. В поле зрения Мартина оставалось только одно незанятое место, слева, у прохода, на пару рядов ближе к сцене. Свет над аудиторией был приглушен. В первое мгновение, когда боковым зрением Мартин заметил долговязую фигуру, беззвучно движущуюся по ковровой дорожке, он встрепенулся от раздражения, которое внушали ему люди, позволявшие себе во время представления ходить, шуршать, разговаривать, в то время как он даже дышать старался как можно тише. Но уже в следующую секунду его охватило чувство гораздо более глубокое, чем раздражение. Долговязой фигурой был Герман К. На нем был безупречный черный смокинг и красная бабочка. Он шел по проходу не спеша и ничуть не смущаясь оттого, что уж полчаса, как прозвенел третий звонок, в общем вел себя так, как будто был не Германом К., а по меньшей мере Марлоном Брандо. Дойдя до свободного места, он остановился, немного постоял в вальяжной позе, осматриваясь вокруг и как бы прикидывая – достойно ли это место его присутствия. Ария приближалась к своему кульминационному моменту. Герман К. сел в незанятое кресло, положил ногу на ногу и одним изящным движением поправил под собой фалды фрака. Музыка стихла. Раздались аплодисменты, похожие на звуки, которые создают голубиные крылья во время полета. Герман К. повернул голову и посмотрел на Мартина. Несколько секунд его лицо было неподвижно, затем он ухмыльнулся, кивнул в сторону его отца и невидимым ножом провел поперек своего горла:
– Кххх!
Мартин посильнее вжался в сидение. Бриллианты на шее певицы ярко сверкали в лучах софитов.
Мистификация
Фи смотрел на Марию, и она не казалась ему ни красивой, ни загадочной, ни каким-либо другим образом привлекательной. Особенно умной она, кажется, тоже не была. Однако было в ней нечто такое, что выделяло ее на фоне других совершенно необычайным образом. Казалось, будто Мария – не человек, а пустая ячейка в пространстве-времени, которую любой желающий может заполнить так, как ему захочется. Так нетребовательно было ее общество. Губы и щеки ее всегда были обветрены, под ногтями часто можно было заметить полосочки грязи. Но в этом не было ничего противного. Напротив, гладкая, почти нечеловеческая кожа других, веселых и популярных девочек и мальчиков, их постельно-пеленочная чистота внушали Фи омерзение. Ему хотелось взять Марию за руку – это должно было оказаться так же приятно, как прикасаться к морщинистым стволам деревьев или прелому лесному мху. И отчего-то он знал, что она не будет ни удивлена, ни раздосадована, если он это сделает, поэтому совершенно не волновался.
С Мартином он волновался постоянно. Он понимал, что тот желает ему только добра, ему льстила привязанность и восхищенно-обожающее выражение, которое читалось в каждом его движении, в каждом взгляде, но от его нервозности и чудовищной напряженности было очень, очень тяжело. Ему было мучительно жалко своего несуразного друга, однако он чувствовал, как с каждым днем желание ускользнуть из-под бремени его заботы медленно, но неуклонно возрастает пропорционально уменьшению жалости. А на дне этого ощущения оставался один только стыд – за себя и немного за него.
Однажды Мартин заболел и неделю не ходил в школу. Фи и Мария возвращались домой вдвоем и так, будто это была их давняя привычка, не только доходили вместе до ее двора, но и проводили там какое-то время, сидя на пороге с ее завороженным цыплятами отцом или в ее комнате, попивая крепкий черный чай. Им было хорошо, даже когда не о чем было говорить. Мария сама взяла Фи за руку, и от этого жеста полностью и окончательно превратилась в естественный и обязательный предмет его действительности. Он поделился с ней своими переживаниями по поводу Мартина. Как и следовало ожидать, она их полностью разделяла. Тогда-то они и придумали Октавию. Точнее, ее придумала Мария. Для «пустой ячейки» у нее была удивительно бурная фантазия. В том отдаленном северном городе, в котором они решили ее поселить, Мария провела несколько лет в раннем детстве. Фи понятия не имел, откуда она всего этого набралась, всего того, о чем писала. Наверное, прочитала где-то, думал он. Вообще он считал, что она чересчур увлеклась предысторией их персонажа, который изначально задумывался с единственной целью – переключить на что-то другое внимание Мартина, сделать ему подарок, который заставит его почувствовать себя не таким одиноким, пока они постараются плавно и незаметно высвободиться из тисков его дружбы. Что они будут делать потом, если этот план сработает, чем они заменят для Мартина Октавию, когда и эта ноша станет для них слишком тяжелой, они не знали. Они надеялись, что все как-то образуется само собой. Пока что они были страстно увлечены своей выдумкой – перепиской умершего недавно в доме Мартина старика Клавдия (который, насколько им было известно, никогда ни с кем не переписывался) с жившей в некотором недостижимом отдалении от него Октавией (которой в реальности никогда не существовало). Литературная ответственность лежала полностью на Марии, которая сочиняла и зачитывала для Фи небольшие зарисовки из жизни их персонажей и, принимая во внимание его идеи и советы, писала письма от лица Октавии, которые должен был получить Мартин. Роль Фи состояла в том, чтобы перехватывать послания Мартина на почте, где работала его мать, и доставлять их Марии, с которой они вместе читали их и обсуждали ответ. Мистификация эта захватила Марию гораздо сильнее, чем предполагалось. Она старалась не демонстрировать этого перед Фи, но ей ужасно нравилось быть Октавией и переписываться с Мартином, который претворялся Клавдием. Как она всегда и предполагала, у того был большой эпистолярно-литературный дар. Отказавшись от его дружбы, она оказалась привязанной к нему крепче, чем когда-либо прежде.
Друзья
Придя в школу, как обычно, около восьми двадцати утра, Мартин застал Фи и Марию сидящими за одной партой, там, где всегда сидели Мартин и Фи. Мария смеялась, что в стенах класса было для нее нехарактерно, Фи что-то говорил и как-то странно хихикал. Когда Мартин подошел ближе, они замолчали и бегло посмотрели в его сторону.
– Что смешного?
Вместо ответа они переглянулись и снова рассмеялись. Прозвенел звонок. Мария юркнула к себе на заднюю парту. Мартину хотелось тоже сказать что-то веселое, но все его реплики получались скучными и не вызывали у Фи даже тени улыбки. Мартин понимал, что ревность противоречит духу «Клуба несоревнующихся», но ничего не мог с собой поделать. Он так привык к тому, что Фи и Мария скорее его друзья, чем друзья друг друга, что и представить себе не мог ничего другого.
После уроков они так же, как и всегда, вышли втроем из школы. Никто ничего не говорил, что тоже было привычным делом, но Мартин уже знал – что-то изменилось, изменилось необратимо. Вместо того чтобы расстаться с ними у своего дома, Фи продолжил, не объясняя причин, идти дальше. Когда они достигли того места, на котором Мартин обычно сворачивает с пути домой и отправляется с Марией в деревню, он не сразу сообразил, чего от него ждут. Все трое остановились и в замешательстве уставились друг на друга.
– Мы с Фи хотели немного прогуляться.
Мартин едва не принял это за приглашение. Но что-то остро знакомое в их лицах разбило его надежды так, как не разбили бы их никакие слова. Ему вспомнилось, как он, совсем маленький, стоял с родителями посреди площади с бронзовым бюстом и смотрел на них снизу вверх, а они – друг на друга. На улице тогда стоял так же серый морозный день, как теперь, а у них в тот момент было в точности такое же выражение на лицах, как сейчас у Фи и Марии: они были счастливы.
Ответ
Мартин смотрел на группу детей, участвовавших в какой-то общей импровизационной игре с использованием снежков, турников и деревьев, и впервые чувствовал себя таким чужим. Ему казалось, что он физически не способен присоединиться к ним, как если бы он был невидим и неосязаем. Ему захотелось драматично рухнуть в сугроб и лежать так, пока кто-нибудь его не спасет. Но опыт подсказывал ему, что этого «кого-то» не существует, и если уж кто-нибудь и обратит на его отчаянный жест внимание, то это будет совсем не то внимание, которого он вожделеет. Так что, подтянув пуховые штаны на резинке, он вздохнул и побрел прочь. Единственным местом, к которому он по-прежнему ощущал отчетливую и утешительную принадлежность, оставалось кладбище. Приведя в порядок могилу матери, он двинулся дальше. Место общественного упокоения города К. было совсем не большим, так что уже через несколько минут он нашел то, что искал. Очень скромное, почти полностью скрытое под снегом, но, в отличие от других, почти нетронутое временем надгробие сообщало лишь имя и годы жизни умершего – «Клавдий С. 19…-19…». За все время, что они провели в одном доме, Мартин ни разу не слышал его голос. А теперь ему предстояло стать в определенной степени им самим. Днем раньше он обнаружил в почтовом ящике ответ на свое письмо. Он решил, что, открыв его здесь, он компенсирует ту часть его действий, которую он предпочитал называть благотворной мистификацией, но в глубине души считал обыкновенным эгоистичным обманом. Он вынул из конверта листок, на этот раз двойной и густо исписанный, и принялся читать вслух:
«Дорогой Клавдий. Я не могу подобрать слова, которые бы вполне выразили радость, доставленную мне твоим посланием. Рисунок очень красив, а фотография напоминает мне о тех днях, которые мы провели вместе. Мне очень жаль, что ты грустен, ведь я не знаю второго такого же великодушного и талантливого человека, как ты. В качестве утешения я бы хотела занять тебя небольшим рассказом, который, конечно, и вполовину не так хорош, как твои, но вдохновлен нашей дружбой, которая, ты знаешь, для меня священна».
Сказка Октавии
Хромому Гансу вот уже третий месяц каждую ночь снился один и тот же сон. Как будто он идет по улице и вдруг становится кругленьким и мягким, при этом какая-то непреодолимая сила заставляет его усаживаться в лужу на дороге. Лужа теплая и удобная. В луже он чувствует себя в безопасности. К нему подходят разные люди и ласково просят его перестать сидеть в луже. Но Хромой Ганс наотрез отказывается это сделать. С каждой минутой он становится все более мягким, а лужа – все более удобной. Так продолжается до тех пор, пока он не перестает понимать, где заканчивается он и где начинается лужа. В этот момент, который был чрезвычайно приятным и до ужаса пугающим одновременно, он обыкновенно просыпался.
Всякий день по дороге на работу Хромой Ганс замечал на тротуаре, по которому шел, небольшую канавку, заполненную мусором и отходами. Что-то пленяло его в ней, а что – он и сам не знал. Город, в котором он жил, отличался медицинской чистотой и маниакальной упорядоченностью. Каждая плитка в облицовке зданий сверкала. Каждая ветка на дереве была пострижена в соответствии с Госпланом. А канавку никто не трогал. Сколько Хромой Ганс себя помнил, она всегда была здесь, грязная и захламленная, как постыдная, но драгоценная тайна. Каково же было его изумление, когда, возвращаясь однажды вечером домой, он не обнаружил на ее месте ничего, кроме гладкого асфальта. Даже признаков ремонта он не смог найти, как если бы никакой канавки тут и вовсе никогда не было. Он наклонился и ощупал ровную твердую поверхность – ничего.
Квартира Хромого Ганса оказалась не запертой. Он жил один, так что это показалось ему подозрительным. С осторожностью пройдя по коридору, он распахнул дверь в гостиную и обнаружил сидящую на его кровати женщину. На вид ей был около сорока пяти лет. Может, немного больше. На голове у нее была намотана какая-то тряпка в качестве косынки, из-под которой торчало несколько прядей спутанных седых волос. Ситцевое платье в мелкий горошек доходило почти до пола, в нескольких местах белели дырочки, демонстрируя несвежее нижнее белье. Обуви на ее ногах не было вовсе, нестриженные ногти чернели от пыли. Голова женщины была слегка наклонена на бок, она опиралась на правую руку, поддерживаемую снизу левой.
– Ну здравствуй, Ганс.
Звуки ее голоса заставили замолчать все вопросы в его голове. Той ночью он спал без сновидений. К утру его гостья исчезла так же таинственно, как и появилась. На столе он нашел записку: «В луже хорошо, а в яме лучше». По пути на работу он обнаружил свою канавку на прежнем месте.
Кстати, хромым Хромой Ганс никогда не был, его грациозной походке могла бы позавидовать любая супермодель.
Могила
Тем временем, в город К. снова пришла весна. Каждый год Мартину казалось, что нарастающая вокруг зелень и бурное цветение словно разрывают внутри него какие-то сверхчувствительные мембраны, и он не понимал, как это агрессивное движение жизни может только в нем вызывать столько боли. Но на этот раз происходило что-то особенное. Может, он предчувствовал, что это последняя весна, которую он проведет здесь, а может, дело было в красноватой дымке, которая уже окутывала черемуховые кроны, ну а может, это было из-за Марии и Фи и того, что он задумал сделать в тот день, как только открыл глаза рано утром.
Мартин очень хорошо знал, что делать этого не следует, но таков уж был его характер. Что-то постоянно заставляло его выжимать из своего несчастья все, до последней, самой горькой капли. Выходя из класса, Мария и Фи оглянулись в его сторону, что с некоторых пор стало предвосхищать неловкую совместную прогулку до того пункта, в котором они оставались вдвоем, а он – в одиночестве, и все трое испытывали огромное облегчение. Но на этот раз Мартин задержался за партой и, стараясь придать своему голосу сколько было возможно беспечности, сорвавшись от этого усилия почти на визг, велел друзьям идти без него, так как ему якобы нужно было еще позаниматься. Они сделали вид, что поверили, он сделал вид, что поверил, что они поверили, и они ушли. Он немного подождал, и тоже осторожно вышел. Когда-то он абсолютно так же следил за Марией, как сейчас за ними двоими, только чувствовал себя тогда совершенно по-другому. Даже издалека по их фигурам можно было понять, как приятно им оставаться вдвоем, без него. С каждым шагом, который (как они думали – так как не знали, что он идет по их следам) отдалял их от его общества, их манеры, их движения становились все более свободными и непринужденными, а его рану – все более глубокой и болезненной. Оказавшись у дома Марии, они уже практически были другими людьми. Они зашли во двор, а Мартин занял стратегическую позицию в кустах.
Мужчина с цыплятами, как обычно, сидел на пороге. Фи присел рядом. Мария быстро полила цветы в саду и присоединилась к ним. Фи что-то сказал ей, и этот вопрос, как показалось Мартину, заставил ее тяжело задуматься. Затем она что-то ответила, и он тоже погрузился в свои мысли. Все это время Фи вертел в руках кусок бумаги – складывал ее в кораблик. Оглядевшись по сторонам, он не нашел ничего лучше, чем водрузить его на лысую голову мужчины с цыплятами. Мария прыснула со смеху. Фи тоже засмеялся. Засмеялся и мужчина с цыплятами – глупым смехом человека, который не понимает, почему смеются другие, но очень хочет быть частью общего веселья. Мартин почувствовал, как от этого смеха, особенно от смеха мужчины с цыплятами, в нем что-то надломилось. Его лицо скрутил знакомый ему спазм, из его глаз хлынули слезы. Он плакал, потому что ему было жаль не подозревавшего, что смеются над ним, мужчину, потому что ему было неловко и стыдно за него, потому что люди, которых он любил и обожал, оказались насмешливы и жестоки, а больше всего – потому что без него им было лучше, чем с ним, и никакие усилия уже не смогут этого изменить. Мартин крепко прижимал ладони к лицу, чтобы его не было слышно. Они продолжали смеяться, а он не мог перестать рыдать. «Глупый! Глупый! Прекрати!», – повторял он про себя, но не прекращал. Рыдания сотрясали все его тело, пока он не уткнулся лицом в землю, зажав голову руками. Почему он такой? Почему у других вокруг все так легко и хорошо получается, а у него нет? Что с ним не так? Почему даже Мария, которую раньше травили всем классом, теперь отвернулась от него? (За последний вопрос он сразу устыдился, но отогнать его от себя так и смог.)
Когда он, наконец, смог совладать с собой и подняться, Фи и Марии на пороге уже не было. Мартин встал и пошел прочь. Мысль о том, чтобы вернуться домой, казалась ему немыслимой. И он пошел на кладбище. Ему чудилось, что все происходит очень быстро, так что добравшись до места назначения, он очень удивился, что стоял уже поздний вечер. Густые синие сумерки стремительно сгущались, и он не сразу различил в рывшей справа от материнского надгробия новую могилу фигуре Германа К.
– Пссс! (На самом деле это было скорее чем-то вроде «Пфсзкфсссс!». Герман К. имел смешанную конституцию животного и неорганического предмета, так что когда его крохотный ротик, незаметный в закрытом состоянии, открывался в попытке извлечь какой-то сигнал, взаимодействие живой, слюнявой слизистой его остренького серого язычка и сухой матерчатой поверхности его рта создавали самые неожиданные звуковые эффекты.)
Велюровая лапка совершила пригласительный жест. Мартин приблизился к краю могилы. Она была не слишком большой, но и не маленькой, такой, в которую он бы уж точно прекрасно поместился. Закончив работу, Герман К. поднялся одним прыжком наверх и по обыкновению торопливо убежал в лес. Мартин положил под именем матери мать-и-мачеху и прыгнул в яму. Он почувствовал себя очень уставшим и решил прилечь. Земля была сырой и мягкой. Мартин свернулся калачиком и снова заплакал. Ему было жаль мужчину с цыплятами, мать, госпожу Лилию, Матильду, Эсмеральду и, конечно же, себя. Он вспоминал, как в школе Фи и Мария смеялись и переглядывались, а он в отчаянии попытался смеяться и переглядываться вместе с ними, хотя уже тогда понимал, что ничего из этого не выйдет, и они посмотрели на него тем удивленно-уничижительным взглядом, в котором читается вопрос: «А ты чего смеешься?» И в один момент этот взгляд уничтожил все, что Мартин успел вообразить себе относительно их дружбы. Он считал ее чем-то сакральным, буквально готов был умереть ради нее. А они, его друзья, считали его шуткой, незаслуживающим даже вежливости недалеким чудаком, «странным», таким же, как мужчину с цыплятами, только хуже, обременительнее. О, как он ненавидел это слово – «странный»! Что такое есть в других, что делает их «нормальными», и нет в нем, отчего его считают «странным»? К своим …-ти годам Мартин еще не знал, что для защиты от злых духов, которые тогда его терзали, достаточно передвинуть понятие «нормы» на то место, где теперь лежало его по-девичьи припухлое, раскисшее от всевозможных жидкостей тело, и все, что к нему не относится и что не кажется ему «своим», навсегда приобретет статус «странного», или просто другого.
Устав от слез, Мартин задремал, и ему казалось, будто чья-то прохладная рука нежно гладит его по волосам.
Переезд
Переезд в Большой Город был назначен на июль. К этому времени ремонтные работы в их новой квартире должны были полностью завершиться. Мартин узнал об этом случайно, от Корнелиуса.
– Как переезжаем?
– А вот так. У папаши новая работа.
– Навсегда?
– Да нет, как же, на недельку.
Мартин посмотрел в окно. Вдруг все, что он много раз там видел, стало выглядеть иначе. Как будто уже сейчас это было не взаправду, как если бы все это уже было у него заранее отнято. Из кухни доносились звуки включенного телевизора, который смотрел отец. Они смешались с шумом в ушах у Мартина, когда он понял: ему не сообщили об этом не потому, что жалели его чувства, ему просто не удосужились об этом сообщить.
– Почему мы должны переезжать?
– Потому что если кое-кто не будет работать, то кое-кому будет не на что покупать свои стручки и пленки.
– Мне надо школу закончить, ты это понимаешь?
– Закончишь там!
Ему хотелось объяснить отцу, что он не может расстаться с местами, которые стали дороги ему, с людьми, живыми и мертвыми, которые, хоть и не так, как ему бы хотелось, но стали ему близки, с пиратом, с обветшалым подоконником, на котором цветочные горшки были расставлены особым образом и гармонировали по цвету с портьерами, что ему страшно снова пытаться встроиться в новые реалии, когда он и в старые не может толком встроиться, хотя всю жизнь только этим и занимался, что ему смертельно одиноко, и еще больше одиночества он может не вынести, но вместо этого он сказал:
– Тебе плевать на всех, кроме себя!