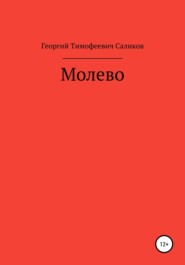По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Василеостровский чемодан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ГЛАВА 3
– Ну, ты тарелочки сообрази, а я сейчас вернусь, – запасной командир на минутку удалился в квартиру, что напротив.
– Тарелочки, так тарелочки, – проговорил профессор, доставая из буфета нехитрую посуду и оставаясь под впечатлением от кухонной пустоты.
Босикомшин, продолжая, кстати, чувствовать себя не совсем в своей тарелке и внутренним взором оценивать собственное оригинальное видение известной поговорки, каламбурить насчёт посуды не захотел.
Вскоре снова появился запасной командир, держа в руке и подмышкой пол-литровые банки.
– Моя-то запаслась – до безумия. Этих банок у нас полный чулан. Нате-ка, открывайте, – обратился он к Босикомшину.
Тот взял обе банки и ловко отвернул на них крышки.
– Да вы, я вижу – виртуоз, – обрадовался командир, – прямо не хуже нашего профессора. Только он больше по роялям специалист. Сейчас по первому стаканчику возьмём и попросим Егорыча показать музыкальную виртуозность. А пока – со знакомством.
Профессор, похоже, сегодня был слишком податливым. Он, без лишних напоминаний, сразу после принятия первого стаканчика за знакомство, сел к роялю.
– Я сыграю из раннего. Нет, вообще первую вещицу. Ещё в музыкальной школе сочинил. Было несложное задание по сольфеджио. На хроматическую гамму. Так я сочинил целую рапсодию. До сих пор помню.
Клод Георгиевич заиграл. Понятно было, что давнее детское сочинение он попозже подразвил. Или теперь немного импровизировал. Красивая музыка. Есть в ней действительно что-то от импрессионизма. Угадал отец его будущее. Лёгкость. Насыщенность воздухом. Вольный переход из тональности в тональность, из минора в мажор и обратно. Перемена в настроении.
– Да, – сказал Босикомшин, когда рояль умолк, – вам ещё, наверное, и в детстве звёзды подсказывали, как сочинять музыку.
– Что, похоже?
– Ага, есть.
– Видите, – обратился профессор к соседу, – мы имеем настоящего эксперта по музыке небесных сфер.
– А ну-ка, а ну-ка, – он переметнулся на Босикомшина, – я же вам обещал подробнее рассказать о преобразователе света в музыку, сейчас я покажу несколько моих нехитрых схем.
Профессор наклонился под рояль.
– А где же мои шкатулки? Я разве переставлял их? А куда? Не помню такого.
Сосед озабоченно поднялся и сказал:
– Может быть, Светлана твоя куда-нибудь перенесла твои вещи? Старинные, да? Красного дерева с медным тиснением? Я их давно приметил у тебя, хотел поближе разглядеть, да всё подумывал изготовить такие же для себя. Даже доски припасены. Остатки от старинного шкафа, выброшенного кем-то на помойку…
– Нет, у нас уговор. Есть вещи сугубо её, которые мне трогать не велено ни под каким предлогом, а есть вещи мои, они принадлежат одному мне, и никем, никуда не перемещаются. Даже при мытье полов.
– Значит… значит, всё же не ты оставил дверь открытой, – ровно и внятно, проговорил бывший командир танка, будто зачитывал окончательно согласованный протокол.
– Дела, дела, – профессор провёл в мыслях интеллектуальную параллель, – и на кухне пусто, никакой еды.
– Забавные бандиты. Прихватили свежую еду и неизвестные им старинные шкатулки. Очень забавные грабителишки. Выбор у них интересный. В общем, вы пока сидите тут, а я пойду вызывать милицию. – Отставной военный, всегда имеющий внутри себя деятельный зуд, взял инициативу в твёрдые руки и двинулся к достижению справедливости, которая, по-видимому, составляла первостепенное содержание всяческих его устремлений. О том, что заветное и недоступное равны между собой по сути, а также и о том, что именно это является главной несправедливостью в жизни человека, – отставные командиры не ведают. У них представление о справедливости обыкновенное: чтоб всё было хорошо и хорошо кончалось.
А что же творилось в голове у Босикомшина? Он, конечно же, отчаянно ругал себя. Ругал за медлительность, ругал за суетливость, ругал за неуверенность. За глупость, наконец. И раскаяние куда-то пропало.
ГЛАВА 4
Ветер продолжал потягивать. Бумаги перекатывались в нём, перекатывались, докатились до чёрного входа в здание школы и образовали из себя компактную художественную композицию из различных геометрических тел – прямо возле наружных ступенек. А по ступенькам спускался мальчик, лет одиннадцати.
«Это кто-нибудь из учителей уронил бумаги», – подумал он, остро впивая взгляд в каждое из бумажных тел и догадываясь о подобном происшествии из-за характера изображений на листах: изображения разных неузнаваемых предметов и людей, линейные графики всяких непонятных зависимостей, схемы неясных намерений, запутанные чертежи неопределённых механизмов, неразборчивые примечания.
– Петька, – давай отнесём эти бумаги в учительскую, – крикнул он второму мальчику, собирающемуся залезть на крышу заброшенного металлического гаража, – может быть, похвалят.
Петька неохотно прервал главное на сей час испытание собственной ловкости, и подошёл к первому мальчику.
– Ну, давай, – и он, сразу воспылав энтузиазмом, аккуратно собрал у себя на груди стопку большей части драгоценного архива, ещё так недавно занимающего законное место в шкатулках из красного дерева с тиснёнными медными накладками. Первый мальчик подобрал остальное в охапку и водрузил её на оттопыренный бок. Оба скрылись в тёмном дверном проёме чёрного входа.
Там на них навалились ребята постарше.
– Чего это у вас? А ну, дайте поглядеть.
– Это учитель наш потерял. По рисованию и черчению, – сказал разгорячённый Петька, предвкушающий похвалы со стороны школьных преподавателей. Мы в учительскую несём.
– Давай, давай. Не шуми.
Взрослые парни отняли у маленьких найденные бумаги, оттолкнули в стороны и убежали. Только у первого мальчика остался один рулончик, обтянутый полиэтиленовым чехлом.
– Ну вот, теперь не похвалят, – грустно сказал он.
– А давай посмотрим, что в рулоне?
– Это же чужое.
– А мы посмотрим, почитаем и опять завернём. И отнесём в учительскую, отдадим учителю.
– Ладно, посмотрим, – согласился первый мальчик и вскрыл пачку бумаги, свёрнутую в рулон.
Там были несколько стихотворений и рисунков. Рисунки изображали одну и ту же, приятную на вид, женщину: одни – в полный рост, иные – лишь голову. И всё – в различных ракурсах.
– Ну, ничего интересного нет, – сказал второй мальчик, – сворачивай обратно и если хочешь, неси в учительскую, – и убежал. Должно быть, вспомнил, что собирался залезть на крышу гаража, чтоб уж самому себе показаться чем-то выдающимся и заслуживающим поощрения.
Один из листочков упал незамеченным, и мы без особого напряжения авторской фантазии разместим его содержание на этой страничке. Удобно или неудобно так поступать, гадать не станем. Если чужую жизнь описываем, то уж чужую вещичку вставить – грех не велик.
В правом верхнем углу изображена голова женщины, как бы слетающей за пределы листа. Большей частью виден затылок, украшенный гребнем стиля «арт-нуво» рубежа девятнадцатого и двадцатого веков. И едва заметны черты лица. А сам «убегающий профиль» нарисован двойной, местами тройной линией, что придавало ему характер взволнованности и одновременно быстрого движения куда-то далеко и навсегда.
Стихи написаны торопливо. В почерке заметно стремление успеть за чувством, которое, надо понимать, и двигало рукой пишущего.
Все музыканты знают, что обратно звук вернуть нельзя.
Он вышел и пропал. Его уж нет.
Как отошедший дух – уста дыханием не смогут взять
Назад. А сердце хладное – согреть.