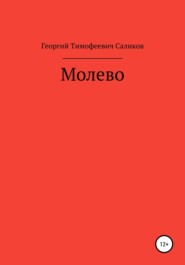По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Василеостровский чемодан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но теперь вдруг небо становилось пресным. Слабое сияние звёзд переставало сливаться с мощью голубого воздушного марева. Оно переставало мерцать, переставало растериваться среди голубизны. Экзотический аромат улетучивался. Звёзды переставали добавлять в небо особый тон с изысканным привкусом. И цвет купола, из-за такой приостановки, действительно терял в оттенках что-то, и без того трудно уловимое. Лазурный-то он лазурный, но не тот. Будто кто-то из осветителей в театре то ли пошутил, то ли по ошибке вставил в главный софит какой-то фильтр, непредусмотренный режиссёрским сценарием. Серенький такой фильтрик. Режиссёр недоумевает, он человек чуткий и нервный, потому-то и недоумевает, в чём же возникло дело. Пока неясна ему причина. Ответ где-то прячется в неоформленных догадках. Что-то в освещении неладное, думает он. Живинки нет. Потеряно известное всем творческим людям «чуть-чуть». Но кто допустил пропажу, кто виноват? Режиссёр кричит кому-то из осветителей, спрашивает у него, какого, мол, лохматого лешего, путаница у него, и что вообще там за отсебятина фантазирует. А надобно вам заявить, что публике, ради которой этот деятель искусства старается, совершенно невдомёк, зачем режиссёр эдак расстраивается. Свет, и свет. Не темно же. И на сцене всё хорошо различается между собой. А тот места себе не находит, хрипит, растрёпанные волосы приглаживает, брючным ремнём на пояснице водит туда-сюда с боку на бок и шевелит пальцами ног в тесной обуви. Тем не менее, публика ничего не понимающая в будто бы зряшных эмоциях постановщика спектакля, тоже начинает ёрзать на стульях. Беспокойство имеет пренеприятное свойство, оно обычно бывает заразным. Оно быстро начинает распространять себя вдоль окружающих пространств – по всем беспрепятственным направлениям. Вся публика: и пешеходы, и пассажиры троллейбусов, и даже рабочие у станков, не говоря о клерках и жителях домов, не отдавая себе отчёта, вдруг стали поёживаться и бегать глазами. Тоже, вроде, комфорту поубавилось. Ничего заметного не происходит, а напряжение беспредметное вживается в тела горожан. Нервы пока ещё не дают о себе знать, но какое-то набухание в них тоже проявляется. Что-то всё-таки действительно неладное. Допустим, режиссёр вроде прав. Может быть, волнение вместе с неоформленными догадками возникает не по прихоти. И не получается выстроить нужную мизансцену…
Хотя о ком теперь мы говорим? Откуда взялся режиссёр? Никакого такого персонажа мы сюда не вводили. Он случайно мимо проходил и ненароком встрял. Для иносказательного сравнения, что ли. Наверное, так. Случайно пробегал. Тоже художник ведь, человек от искусства, поэтому и задержался ненадолго…
Однако что же делают законные наши герои? Где они?
ГЛАВА 2
Босикомшин стоял у решётки Соловьёвского сада. Как мы помним, он был средним горожанином, поэтому и у него тоже пробуждалось беспокойство, замеченное нами в предыдущей главе. Оно зарождалось и заселялось во всех местах тела, вызывая там захватническое неудобство, и заставляла его поёживаться. На сей раз уже точно, чужая чья-то тревога, случайно обитающая во внешнем и общем для человечества пространстве, закинулась кем-то внутрь тела, наподобие вируса заразного, и начинала там приживаться, вызывая постоянно готовый резонанс. Нашу острую отзывчивость на чью-нибудь беду – ничем ни усыпить, ни одолеть. Она упруга, непоколебима и бодра. Вот уже и вновь просыпается отчаяние и восходит из недр сердца, поднимаясь к области горла. Оно слепо от рождения, потому-то без разбору и давит во все стороны, как в бочке Торричелли, и готово теперь придушить своего хозяина. Жжёт, давит и ноет.
Мы подобное уже где-то встречали. Да, не напоминает ли нам это душевное состояние Босикомшина – уже знакомое раньше состояние иного человека? Вроде бы мы похожими словами описывали недавнее настроение профессора Предтеченского. Однако не думаем. Наш пожизненный пешеход переживал совсем не то, что испытывал музыкант и изобретатель, неподвижно пребывая тогда у парапета набережной и философски глядя в сторону запада. У нас нет даже убедительной фантазии, сравнить или чем-то уподобить совершенно разные ощущения. Полнозвучный нездешний мир Клода Георгиевича не мог ничего сообщить Босикомшину из видимых им панорамных далей. Тут сходство отдалённое. И если бы возможно было проникнуть во внутренний концентрированный опыт пожизненного пешехода, то не заметили бы мы истечения тех сигналов, кои сравнимы с ощущениями профессора.
Возможно, герой наш, пройдя путь недюжинных осмыслений, оценивал пока непознанные им чувства лишь с некой вообще странной точки зрения. А её и точкой-то назвать нельзя. Она тоже не собиралась определённо оформляться в пространстве мысли. Позволим себе сказать нечто невообразимое, но умозрительно представимое: прямо на глазах весь здешний объём будто исчезал в небытии. Всё окружение затмевалось иным, совершенно чужим телом, и, поскольку нет у нас для него собственного определения, то пусть это будет неким многомерным временем. Да, тело сие могло состоять из одного сплошного времени, распухшего по трём измерениям до подобия непроницаемой тучи. И точка зрения, всегда имеющаяся в наличии у мыслящего человека, оказалась там, внутри. Оттого и стала она странной. И в толще этого не понять чего, то есть, такого вот невообразимого тела-тени, не менее странным способом скрылись недавние происшествия, не представляя собой никакой пространственной формы. События во дворе школы, на корабле-мертвеце… Происшествие, вот оно, а видеть его невозможно. Затмилось. И свежая картина взыгравшего света от благодарного чувства приобретения профессорских бумаг, удачно минуя скверное действие, преступное, не одобряемое никем, эта картина будто разлитого сияния солнца в воздушном куполе, о котором мы только что размышляли вместе с несуществующим режиссёром, – заслонялась и она тягучей серой тенью… А падала она будто от неуместной и несвоевременной дури милицейской, что ли?.. Да, это мы и хотели отметить. Ну, не мы, а герой наш, Босикомшин так решил. А мы лишь отметили. Вроде пустяк, а произвёл невообразимые превращения в сознании человека. А превращения таковы. Неизвестно из каких пряностей составленный аромат, уловимый далеко не каждым, аромат возможности пребывать в неказистой и ржавой каморке, где в единственном числе возникает особое и так необходимое ему настроение, тот фимиам наслаждения – как-то быстро улетучивался, заменяясь на полную неизвестность и безнадёжность… Возвращением в раёк теперь даже не пахло. Непонятное человеку совершенно неуместное затмение – росло и сгущалось, не давая надежды на любое в себе утонение и прозрачность, ну, хотя бы где-то с краю. Кладезь желанного: любимые дровишки, любимое пламя, а главное – новое любимое приобретение – рукописи золотые да шкатулки с медным тиснением, куда он их погрузил, – всё это растворялось в теле одинокого непонятно чего…
А если говорить простым языком, то всё ясно, отчетливо видно, словно этот ещё незаконченный день. Понятно, что нет уже у нашего первого героя нигде особого собственного места, где он и чувствует-то себя человеком. Не сыскать ничего подобного по всей планете. Ушло оно. Случайно появилось, также случайно и пропало. Жаль. И что же, господа, получается, будто ему и в роли именно героя приходит конец, коли он сам человеком себя перестал ощущать? И никто о нём более не поведает нам? Иссяк интерес к нему? Так ли? Без тесного закутка в жизни, без будто живой каюты на кладбище, пусть кладбище кораблей, а не людей, именами которых они названы, без печки с дровишками, без этих, прямо скажем, сущих мелочей, не замечаемых нормальными людьми, – и жизни его не стало? Пропало всё настоящее? Да, на самом деле жалко, до глубины души, нам не хочется расставаться с ним. Пройдёшь теперь иной раз мимо того странного кладбища и скажешь: «Босикомшин? Кто это? Ах, да, да, помним, был такой. Но нет его там, в уютной каютке. Ушёл он, этот пожизненный пешеход, и не вернётся никогда»…
И настоящий Босикомшин глубоко вздохнул с прерывистостью. Одним словом, у него, оказывается, много есть чего для переживаний, помимо описанных нами странностей в освещённости небесного купола, а также приключений с пряностями в небесной чаше.
Нет, напротив, не всё потеряно пожизненным пешеходом, чуть было не исчезнувшим за горизонтом повествования. Ведь в этой перевёрнутой чаше судьбы человеческой, в ней недавно появился иной кладезь. И будто действительно заветный. Мы имеем в виду звёздный оркестр. Пусть собственного места для нашего исчезающего героя там нет, но собственный кладезь его – есть. Уф. Хорошо-то как! Думается нам, – этот новый, волшебством приобретённый кладезь, он даже с лихвой превзойдёт всякие любимые сгорающие дровишки с линями судьбы, обращающимися в светящиеся прожилки в любимом жару, превзойдёт и любые иные, пока любовью неиспробованные, но уже заранее понятно, что недостойные приобретения! Туда ж, ни милиция, ни изобретательные власти никогда не доберутся и ничего там не затмят. Даже отставной командир танка… ну, кстати, командир вряд ли собирался в том ему мешать, это лёгкое предубеждение пролетело в голове минутного счастливчика, показалось нашему, пока ещё существующему первому герою, будто сосед профессора недолюбливает его… да. Конечно. Одним словом, вообще никто не в силах создать ему препятствий при воспроизведении звёздной музыки исключительно только ему доступной мыслью. Везение у него такое.
Но правомерно ли обнадёживать нам его по поводу прежнего существования заветной музыки сфер? Нет ли здесь эдакой незадачи? И вот, уже догадка о возможной утрате последней радости в жизни, – взяла, да мелькнула, блеснула и моментально разрослась в его растерзанных мыслях. Он помнил о том, что заветное и недоступное – равны между собой. Невольно задрал он голову и так подержал её долгое время, упираясь взглядом в небесную вышину и дальше, за неё. Чистая она, совсем отмылась от облаков. Нет ни единого пятнышка. Только освещённый закатным солнцем золотистый, так называемый, инверсионный след, оставляемый самолётом, пролетающим слишком высоко, и по той причине, почти невидимым, – при удалении от него, медленно расширялся и делался более насыщенным желтизной.
ГЛАВА 3
Профессор Предтеченский остался дома один. И он тоже чего-то переживал. Нет, скоропостижная утрата следов дел своих в виде записей на бумагах – особо не затрагивала чувств. Гемма? Точно. Жалко, украли именно этот маленький камешек, отшлифованный чуткими пальцами уже на протяжении не одного десятка лет. И чьи-то чужие руки терзают его теперь и суют куда-то в чужое место. Или бросили по дороге в грязь. Ой, только бы не бросили. Хорошо, если бы догадались продать какому-нибудь антикварному магазину. Походил бы тогда, пооббивал бы пороги лавочек разных, пошарил бы по прилавкам да по стеллажам, и непременно бы отыскал. Выкупил бы. Угу. Есть надежда. Завтра и пойдём. Да. Завтра ещё можно будет заглянуть в музыкальную школу да подирижировать оркестром с детишками. Но то – завтра. А чем же коротать сегодняшний вечер? Траурный.
Клод Георгиевич сидел при полном одиночестве и осознавал эдакое непреодолимое неудобство от внезапной сиротливости, поглотившей целиком все ощущения жизни. Нет, отчего же? В смысле общего человеческого окружения, он вовсе не одинёшенек. У него много друзей, разбросанных по всем краям земельки нашей. И родственники есть, их тоже много. И семья никуда не девается. И не разбросана она по кромкам ойкумены, а всегда рядышком – старая притёртая семья в давнишнем супружестве. Чем-то даже устойчива. А сиротливость вот взяла да явилась, будто из ничего. Выросла без надобности почвы. Горестная такая, да растёт и спеет сочной горечью прямо на глазах. Глубина сердца и острота мысли ощущают её несъедобный привкус, но поделать ничего невозможно человеку. Нет мочи избавиться от её растущей силы, прибавляющей в упрямстве своём. Раньше, на глубине сердца и на острие мысли, прежде там всегда бывало несравнимое светлое воспоминание, даже не вспоминание, нет, присутствие, настоящее присутствие. Это присутствие даровала ему нехитрая гемма, камешек с портретом, скромным видом постоянно пробуждающий ощущение чего-то необычайно дорогого и необходимого. А теперь именно эти же закрома человеческого богатства, эта глубина сердца и это острие мысли, – нещадно прожигались и остро прокалывались необратимостью утраты. Тонкий свет обратился в грубый жар. И попутно возникает иной огонь, пожирающий уже не только присутствие, но и воспоминание о нём, как таковое. Бывает ли что более бедственное для отзывчивого человека нашего времени?! Профессор музыки, осознавая пронзительное продвижение практически никуда, почувствовал определённую нехватку свежести обычного воздуха, заполненного нормально рассеянным солнечным светом. Он открыл окно и высунулся в него, глубоко насыщая лёгкие. Однако ж, и тут не хватало ему чего-то главного, дорогого и необходимого: не самого воздуха с кислородом, но аромата свежести духовной, неуловимого мыслью и чувством, но жаждущего самой жизнью, что всегда раньше неизбежно узнавался и удерживался в нём чудесным образом и, проникая в лёгкие, давал обновлённую пищу сердцу. Теперь не мог профессор уловить его. Жажда не утолялась. Наверное, сиротливость и неутолимая жажда стоят в одном ряду. И жалость неподалёку посиживает. Профессор уже был готов дать волю слезам. Обычным слезам, а не тому плачу души, который совсем недавно беспричинно мучил его у парапета набережной. На сей раз, причина более чем откровенна. И если б выскочил из-за угла кто-нибудь из посторонних нам людей, какой-то критик чужой жизни, то сей же час мог бы с уверенностью всё понять и немедленно обвинить музыканта в несвоевременном и вообще всегда неуместном порыве сентиментальности. Мог бы, но – чисто из-за глупой поспешности и неоправданной самоуверенности. Тот «кто-нибудь», он плохо и чрезвычайно искажённо осведомлён о далёком, но светлом прошлом профессора. А туда же, суждение у него, видите ли, имеется, и чуть ли не профессиональное. Впрочем, и мы тоже, хоть нельзя сказать, что посторонние, однако ничего о том не знаем. Ни строчки. Но, посветив умом в потёмках чужой жизни, позволим себе догадаться. И, в отличие от этого «кого-нибудь», суждений не допустим. Догадка не претендует на истину. Просто облик Предтеченского говорил за себя. Порой человеческое лицо и руки, да, лицо и руки выдают скрытое внутри души переживание. И теперь, по отблескам на лице и по шевелению рук, видно, что свет от прошлого не гас в нём, подобно звёздам в небе. Он будто бы струился эдакими живительными потоками. Кстати, звёздный свет – и есть из прошлого. Ведь, глядя на звёзды, мы видим их расположение на тот час, когда свет уже дошёл до нас. Но на самом-то деле все эти светила в данное время обретают себя уже совсем не здесь. Места, нами неведомые, приютили их, и опять же – не на постоянной основе. И, может быть, другой раз, одна-две из них только что взорвались и превратились в рассеянные облака, а ещё пять-шесть схлопнулись в чёрные дыры и стали вовсе никому невидимыми. Но давнишнее живое горение всяких светил всё ещё доходит до нас, будто опровергая движение к собственной участи. Так что сентиментальность ни при чём. И неуместны чьи-то поспешные выводы. Впрочем, надо сказать, заразное оно, суждение. В любую голову может проникать беспрепятственно и там причинять всякие неприятности. Вот уже и мы, посветив там и сям в густых потёмках, вполне позволяем смелости своей считать историю, излучающую встречный свет, – довольно тривиальной. Утверждать не станем, но подобные случаи находят себе место во многих жизнеописаниях, изобилующих трюизмами. Однако мы тут же опомнимся и ухватимся за спасительную необыкновенность, эдакий иммунитет ума, да отринем всякие заразные суждения. Ведь сам профессор у нас – именно вроде необыкновенного склада, уж слишком необыкновенного. И та далёкая вспышка давнишней, тоже ни на что не похожей, светлой влюблённости – не пропадает она в непроходимых дебрях времени. Мчится она тонким лучом, горит, пылает, несмотря ни на какие перемены в окружении вещей. Только вот о предмете его влюблённости мы ничего не знаем. Кто он? И где теперь? С ним-то что приключилось? Не станем гадать и догадываться. Мало ли в нашей жизни путей-дорожек, да всяких выходов и входов с непознанными заслонами? Если далёк этот предмет влюблённости от самого Клода Георгиевича, то от нас – и подавно. И недоступен. И ни кем не завещан. Вышел и вышел. А дверь захлопнулась, что и не отворить её, не выпрыгнуть на лестницу и не крикнуть вниз: вернись! Нет, Клод Георгиевич не уповает на справедливость. Ведь всякое передвижение людей в пространстве жизни прерываться не должно. Даже если каждый ступает, исходя из опыта или, наоборот, из безрассудности. Кто идёт в нём уверенно, кто робко. А кто – использует подручные средства. О таких говорят, что им везёт. И в сию пору – та женщина где-то продолжает куда-то передвигаться. Удачно? Вот уж чего не знаем вовсе, того не узнаем никогда. Ту женщину мы не видели. Но свет не перестаёт идти из её прошлого, озаряя лицо профессора. Мы видим на нём отблеск далёкого света. Может быть, достоверное, но неведомое нам существование в движении к данному времени уже и вовсе прекратилось в этом мире? Где-то, в отдалении от нашего героя, уже остановилось дыхание жизни того человека, необычайной красотой своею объемлющего всю природу вселенной, видимой нами и невидимой! Веки смежались и замерли, превратив космос в безжизненную пустыню абсолютного мрака… Возможно. Пусть даже так оно и случилось, как раз в сей момент. Но свету нет до того никакого дела! Посмотрите – свет нам являет весь трепет того, что давно уже пропало в прошлом, но преподаётся оно очевидным настоящим. Отовсюду. Так и живёт сиюминутно оно, это прошлое, ставшее реликтовым. То, ушедшее секунду назад, и то, что сияло за миллиарды лет до нашего существования, – одновременно является нам. Вот почему нас так привлекают звёзды. Весь прошедший мир мы видим в одночасье, когда глядим на них. И среди этих сокровищ, кстати, есть одна частичка, с именем “Гемма”, хранящая чей-то образ, – в созвездии Северной Короны. Давнишний, очень давнишний свет от неё доходит до Земли. Мы теперь увидели её в том месте, где она была 75 лет тому назад! Но где в действительности зависла она в то мгновенье, когда мы устремили взор в небеса? И что ей до Земли, когда от неё и Солнце-то не различить во тьме! Оно – лишь ничтожная звёздочка седьмой величины где-то между Вегой и Арктуром!
Клод Георгиевич, пока не знал о творящемся происшествии в космическом пространстве, где уже все звёзды подпадали под завесу неизвестного происхождения и гасли, одна за другой. Однако ж, следуя присущему только ему столь необычному чутью художника, почти невольно сравнивал он жгучую и внезапную утрату – с тем, что вершилось именно в глубинах мироздания, и без обману. Он взбудораженным воображением представлял совершенно правдоподобную для себя утрату звёзд, делая это чисто умозрительно, без объёмного выражения. И выстраивал он о том грамматические предложения, используя как раз сослагательное наклонение. Создавал мысленную параллель бессознательно, не ведая о том, что, сослагательное наклонение тут ни с чем не вяжется, что на самом деле он уже уподобился профессиональному репортёру, и преподаёт единственно себе одному в сей момент свершившуюся трагедию, что реально и без сомнения продолжает разворачиваться на куполе небесном.
«Если бы неизменно оставалась земля с луной своею, никуда не девались бы марс там, юпитер и остальные родственники по солнечной системе-семье вместе с общим покровителем – солнцем, – думал профессор, – но, скажем, вдруг исчезли бы все звёзды. Эдак смахнул их кто-то широким рукавом или закрыл непроницаемым плащом»…
Клод Георгиевич на миг остановил параллель и напомнил себе о нежелании думать о судьбе «чемодана». Умозрение, так умозрение. Не надо впутывать сюда совершенно частный случай практического использования звёзд. И потом, он уже давно и бесповоротно отрёкся от ужасного изобретения, отпустив его в свободное плаванье по Неве. Он и сам ещё недавно был избавлен от изумительного прибора. И уже с полной решительностью забыл бы о чемоданоподобном предмете окончательно, кабы ни этот постоянный «встречник» и «натыкальщик».
«Они где-то и так слишком далеко, – думал профессор, выветривая из мыслей почти сбывающуюся было практическую мечту о звёздном проигрывателе, – от них нет никакого ни горя, ни блага»… – чемодан с моторчиком, работающем на звёздной энергии всё ещё мешал ему, и он искал какое-нибудь спасительное отвлечение.
«Даже для тех, кто подвержен симпатии к астрологическим наукам, звёзды не обладают особо сильным влиянием на судьбу». Вот и нашлось отвлечение. «Планеты по солнечному семейству влияние имеют, а звёзды – нет. Они, да к тому же ничтожно малая их часть – не более чем фон в розыгрыше семейных сцен. Иные люди, правда, рождаются под счастливой звездой. Очень редко. Но это уже не астрология, а метафора. Одним словом, нет явного опыта излияния пользы от звёзд».
Знание о реально существующем чемодане упрекало профессора в том, что он лукавит. Есть же польза, да ещё и размеров невероятного охвата. Польза, она же и вред. Трудно, очень даже нелегко выпутаться из всеохватного знания и попытаться хотя бы ненадолго представить себе что-нибудь совершенно в чистом виде, без предрассудков! Клод Георгиевич зажмурился и набрал воздуха по горло.
И профессор успокоил себя неожиданно тем, что нашёл способ отделить недавнее дело жизни от нынешнего почти поэтического сравнения. А способ прост: удалить это дело жизни подальше, запихать вообще в чертоги небывальщины.
Давайте подслушаем размышление профессора. «Обычно видимый нами звёздный свет, если и достигает земли, то из давно выжженного пороха. Он летит к нам уже никем не подгоняемым и совершенно по инерции. Но трубочкам в моём чемодане до того нет интереса. Они ловят ровно столько фотонов, сколько перепадёт им за одно мгновенье. И со стороны пространственной перспективы не знают они значительных помех. Но допустим ещё одно замечательное свойство трубчатого прибора: если ему незнакома перспектива пространственная, то почему бы вкупе с ней и время становилось бы второстепенным с его производством скоростей? Тогда трубки видели бы явленное звёздное происшествие здесь и сейчас, а не из какого-то там прошлого. Именно сейчас, когда звёзды вдруг начали исчезать. Тончайшая струйка самого настоящего и необходимого вещества уже не оседала бы на донышках… и… и ничем бы себя не обнаруживала, как не обнаруживал себя всегда свет звёзд, скопленных в ядре Млечного пути из-за космической пыли»… Предтеченский с облегчением выдохнул всё содержимое лёгких и припомнил своего сегодняшнего «встречника», поделившегося с ним соображении о том же самом «прахе небесном», да тут же позабыл, продолжив собственную мысль.
«А что станет со всеми нами, после того как звёздный мир будто бы уже в одночасье исчез? – продолжал он мучить себя параллелью, – наверное, будет именно сиротливо. И не просто сиротливо, а – совсем. Тут не только выть захочется, тут места себе не найдёшь. А почему, не знаем. Ну, что такого? Подумаешь, звёзды. Что они дают? Никакого ущерба из-за их исчезновения не произойдёт (тише, тише, не надо о чемодане). Тем более, светят из прошлого. Разве беда может происходить от прошлого?».
– Солнце же есть, и луна есть, – вслух произнёс он, не давая упрямой иной параллельной мысли проникнуть в его постройку, – утренний восход, вечерний закат, смена времён года. Смена фаз луны. Всё есть. Планеты пусть себе влияют на судьбу, если кому-то очень такое надо. Чего ещё? Довольствуйся тем, что тебе перепадает и благодари прекрасную жизнь за то, что она продолжается… Но нет
«Замучит это ощущение утраты, и, пускай, кто-то пытается нас убедить, будто ничего особого не произошло», – закончил он жгучую мысль уже про себя.
Напомним: профессор Предтеченский внутренним взором представлял, конечно же, не звёзды, гипотетическая потеря которых возникла чисто предположительно и беспредметно, но не без сопряжения с большими трудностями. То просто логическое упражнение, чисто для сравнения. Аллегория, что ли. Не звёзды, а всего-навсего лишь утраченная гемма, портрет на камешке – простенькое и крохотное напоминание о вовсе непростом и, может быть, величайшем из всего, пребывающего на этом свете, – вот причина волнения. Ну, не столь уж великом. Не надо великого. Самое нужное, вот оно, вот о чём напоминало изображение на гемме. Клод Георгиевич долго и с незатухающей любовью хранил это напоминание о самом нужном для него человеке вполне материально. Постоянно оно было с ним. Пусть – в шкатулке, пусть даже очень редко видимое. Но действительное, живое существо, изображённое на простеньком предмете, бывает заметным ещё реже. Да что и говорить – уже никогда не будет оно видимым воочию. Одна лишь память, исключительно, и только она способна вызвать таинственное присутствие. А теперь вышло невзначай такое вот событие: даже этого, единственного, ничтожно малого материального изображения, посредника между памятью и жизнью – нигде нет. И оно вдруг тоже ушло в царство Мнемозины. Предмет-напоминание о самом нужном, и он – только лишь в ненадёжной памяти.
Трудно, конечно, сочувствовать Клоду Георгиевичу, поскольку мы по-настоящему не посвящены в тайну камешка с портретом. Мы едва-едва прикоснулись к ней, да и то – одной робкою догадкой. Поэтому и посчитали её вполне тривиальной. Раз что-нибудь на что-нибудь похоже, значит оно тривиально. Однако не запрещено и нам вернуться к профессорской мысленной параллели и аллегории насчёт утраты звёзд на куполе небесном, чтобы на чуточку пробудить наше искреннее сочувствие. Действительно, возьмите (опять лишь только для сравнения), да представьте, будто все небесные звёзды, те, будто никчёмные вещицы, удалились. Исчезли. И что это оно, которое исчезло? Возможно, и они тоже, и без сомнения, есть не что иное, как напоминание нам, людям – о чём-то вопиюще нужном для каждого из нас. Ведь ясным светом они постоянно дают понять, что в каждый данный момент мы видим жизнь, проистекающую теперь, вчера, и много миллиардов лет назад – одновременно. Не просто так ведь нам об этом свидетельствует дружное свечение разных эпох. Вот мы сказали: «вопиюще нужное». Что оно именно? Не знаем. Не можем знать, поскольку ни вы, ни мы – никогда не видели его воочию. Мы бездоказательно догадываемся о его существовании. Вообще мы по большей части обо всём только догадываемся. А ничтожными знаниями себя мы только тешим. Но дальше, дальше. Вот вы попробовали представить удаление всех звёзд, всех до единой, исчезли они, и у вас в тот же миг не стало видимого повода для обращения внимания на самое нужное. Даже зацепка для догадки исчезла. Ничто кроме памяти не сохранит убегающий в небытие повод. Память о напоминании. Уж очень что-то зыбкое теперь пребывает с вами, и забыть его уже совсем ничего не стоит. Мы и без того редко прибегаем к памяти, мало чего в ней сохраняем, если нет для того повода. А тут и повод – возьми, да тоже туда, в память окунулся, оставаясь в её потёмках. Чем же достать его оттуда?
И не пребудет у вас теперь даже той спокойной уверенности в том, что сойдут облака или кончатся белые ночи, и готово – звёзды вновь появятся у вас над головой и о чём-то напомнят. Мы же привыкли к тому, что светлые и колкие пятнышки наличествуют испокон веков. Значит, и должны быть. А вдруг оно не точно так. Мало того, при всём при том не стало и уверенности в их скором возвращении. Только зыбкая, короткая и ускользающая память о былом существовании звёзд заменит вам ту спокойную уверенность насчёт облаков и белых ночей. Смотришь в ночное безоблачное небо, а там ничего и нет. Случай такой произошёл, акция, вами не предусмотренная: погасло всё. Один марс какой-нибудь торчит, и больше ничего. Что же произойдёт завтра и в дальнейшем вашем бытии, когда вам уже действительно ничто не напомнит о главном, о самом нужном? А вы, о, Господи, никогда и не видели его, хотя вам регулярно и неназойливо о нём напоминали эти уже навсегда зашторенные звёзды. Как жить без него, без главного? И никакой планетарий не поможет.
Вообразим будто, вызывая сочувствие переживаниям профессора по поводу потери единственно для него драгоценного камня, мы попутно и не слишком намеренно вызвали сочувствие ему же, но и ещё по одному поводу. Он же одновременно терял источник музыки сфер! Думать он, может быть, и не думал о том и, пусть даже отгонял мысль о замечательном, но вредном промежуточном изобретении, и вообще отрекался от него… но, как-никак, – дело жизни, всё-таки. Жаль, очень жаль.
Музыка звёзд, музыка звёзд. Её слышал обычный городской житель. Её, должно быть, любой слышал, но не обращал внимания, потому что она – постоянный фон, сопровождающий человека со дня рождения и до конца жизни. Каким бы прекрасным он ни был, привычка делает его не замечаемым.
Но ещё раз вернёмся к гемме. Ведь профессор Предтеченский погрузился в переживания по поводу утраты именно её, а не всех звёзд и даже не одной из них с тем же названием, что обитает в Северной Короне. О звёздах мы здесь с профессором перекинулись ради сравнения, мы нарочно о том и предупредили. Однако разницы нет. На камешек тоже не стоило обращать внимания. Не надо думать о том, кого он вам напоминает. Потому что есть у людей привычка в уверенности: никто и никогда его у тебя не отымет, хотя бы по единственной причине – кроме тебя, ни для кого другого он никакой ценности не представляет. Поэтому он бессменно при тебе. Он исключительно твой. Самый дорогой предмет, напоминающий о самом нужном, неизменно и будет при тебе. А откуда-то нашлись те, кто, не подумав, отняли для себя ненужную вещицу и унесли неведомо куда. Есть, отчего внезапно возникнуть бурному росту сиротливости, несмотря на постоянное присутствие «притёртой» семьи.
Ага, вот-вот, именно семья. Та, которая действительно притёртая и никуда не девающаяся. Что она? Клод Георгиевич ведь и в ней себя постоянно чувствовал сиротой, правда, признаемся, иного рода, то есть, счастливо пристроенным. Благодарным подкидышем. Но, тем не менее, как она отнесётся к теперешнему состоянию, которое он, конечно же, не сможет скрыть? Ну, такое странное и чуждое свечение из вечно сиюминутного прошлого, коли оно и раньше никогда не кололо глаза этой давно притёртой семье Предтеченского, так, значит, исчезновение тоже не станет замеченным. Не ведала она о том, и если догадывалась, то вниманием к нему не баловалась. Махнёт рукой да промолвит про себя: «чем бы ни тешился»…
Клод Георгиевич затворил створки окна, плотно зашторил проём, подошёл к роялю и, не открывая крышки, виртуозно постукал пальцами по чёрному лаку.
ГЛАВА 4
– Да ты покажи, что за штуку нацепил на шею, – сказал один бомж другому.
«Аристократ» вытащил из-за пазухи простенькую вещицу, дорогую неизвестному им человеку, и стал разглядывать рельеф, отводя руку от назойливого сотоварища то в одну, то в другую сторону, то вверх, то вниз.
– Ну, дай ты мне поглядеть, – настаивал временный спутник и, поймав, наконец, метущуюся ладонь товарища по социальной нише, другой рукой ухватился за бечёвку геммы и сильно дёрнул вниз, с намерением отнять интересную вещь.
Бечёвка оборвалась, и камешек соскользнул с неё, обретая двойное ускорение: от рывка и от земного притяжения. При резком движении вниз он успел едва разок сверкнуть, отразив на миг закатное солнце. Тут же, не замеченный обоими путниками, этот для кого-то дорогой и самый нужный предмет сразу стукнулся о ребро камня тротуара, и от него отскочил в виде нескольких осколков, веером разметавшихся в разные стороны. Вот и всё, что осталось от изображения неизвестной женщины. Совершенно тусклыми и корявыми, а главное, ничего не значащими осколками бывшая драгоценность слилась с мелкими кусками щебёнки, что просыпал здесь недавно грузовик, торопящийся на стройку.
– Зря ходили в ту квартиру, – сказал бывший аристократ, не находя глазами осколков геммы, – рисковали зря. Никакого толку.
– Ну, почему зря, – ответил товарищ по судьбе и вынул из кармана ключ. – Видишь?
– И что? Выкинь. Всё выкинул, и ключ выкинь. Зачем он тебе?
– Нет уж. Ты ничего не понимаешь. Это же ключ от квартиры. Причём от известной, а не от абстрактной. Приятно осознавать, что у тебя есть ключ от вполне конкретной квартиры. Я такого чувства уже давно не переживал. Приятное оно. Человеческий облик поддерживает. Понял?
Бомжи постояли недолгое время, а затем разошлись по разные стороны моста.
ГЛАВА 5
Спектральный класс небесных звёзд оказывается тут ни при чём. Этот Гарвардский спектральный класс Моргана-Кинана всего-навсего нагревал донышки трубочек профессорского чемодана. Пифагор ночью во сне рассказывал профессору Предтеченскому, конечно же, не о спектральном классе, тем паче, не ведал он о Гарвардской обсерватории. Значительно позже всё преобразовалось в такое средство. Музыка же всегда лилась сама по себе. Она извечно льётся сама по себе. А звёзды о ней, может быть, только намекают. Они подсказывают нам не более чем о предположительной игре на небесах, о бытовании там симфоний непроизнесённых звуков. О далёком таком существовании… Нужно такое кому-нибудь или не нужно – вопрос неуместный. Мало кто знает, что ему более всего нужно. Вообще, всё то, что изначально пребывает по-настоящему самым нужным, на поверку оказывается очень далеко и всегда не замечаемо из-за видимого вокруг изобилия ненужного, попросту лишнего, застилающего и глаза, и желания. Потому-то и утрата его, вероятно, тоже горе вроде бы незаметное, а, стало быть, и не горе вовсе. Примем сносное допущение: жалко утраты, но прожить, мы думаем, получится и без неё. Прожить. Да, прожить и без самого нужного не больно. Есть такой опыт.
Командир танка в запасе шёл домой. И, конечно же, не ему принадлежит мысль, высказанная перед тем. Но у него в голове и на сердце были думы и чувства такой плотной наполненности, что можно с известной степенью иносказательности приписать и ему подобное рассуждение. Он имел подавленный вид, потому что потерял веру в существование справедливости. Не знаем, чего это он так расстроился, и почему вдруг решил, будто вера в справедливость уж настолько ценна, что вышла необходимость страдать при её потере. И была ли эта вера для него обоснованно самым нужным предметом, трудно сказать. Но то, что она пребывала тоже на значительном удалении от него, и с завидным постоянством не доставало повода, чтоб ей пробудиться, мы можем догадываться по отдельным отрывкам из его эпизодической роли. Да и вообще справедливость, по точным наблюдениям военного человека, по обыкновению бывает исключительно далеко. Рядом справедливости не бывает никогда. И в нужное время – тоже. Она где-то почти в небытии. Но непременно должна восторжествовать. Должна. В будущем. Но сосед профессора старался постоянно ощущать действенное присутствие этого скользкого вещества. Вернее, он знал о её наличии в природе страстей, как влюблённый чувствует присутствие предмета обожания. Без перерыва. А теперь, вот тебе на, – нету. Полностью пропала гармония природы, её обнаруживающая. Вы поглядите на этот мир: факты совершённого преступления налицо, причём злодеяния вопиющего! Есть сокровище знания, которое, по сути, бесценно. Есть обладатель, без сомнения законный. Есть ограбление, очевидцами засвидетельствованное, есть грабитель, вероятностно вычисленный. А юридического нарушения как бы и нет. Нет и пострадавших от него. Ничего нет. И всё это проступает на глазах чуть ли ни единственного честного представителя насквозь коррумпированного человечества. Командир танка чувствовал себя оглушенным.
Он шёл домой. Руки были заняты семью шкатулками красного дерева с медным тиснением. Хорошо, верёвочки у него всегда припасены в карманах галифе. Так, на всякий случай: вдруг возьмёт, да попадётся по дороге одна-другая полезная для жизни вещь. Вот он, будучи в каморке Босикомшина и пребывая в наслаждении от положительной оценки беспримерной запасливости, туго, с упругостью переводя язык внутри щёк и губ, так же крепко присовокупил шкатулки друг к дружке, поделив их на две связки: три штуки в одной обойме и четыре штуки в другой. А потом и понёс он ценный груз, определённо не зная, зачем и кому. Порой останавливался, одновременно задерживая дыхание. Справедливости уже нет, доказывать нечего. Наверное, так просто нёс, привычка заставила. До дома дойдём, а там видно будет.
ГЛАВА 6
Босикомшин, и мы о том писали, тоже переживал утрату чего-то бесподобного и особо незаменимого. Он всё яснее понимал, что не сможет никогда вернуться в сокровенную каморку на кладбище кораблей. Там уже произошла облава, проведён шмон. Всё приземлено и опошлено. Как ведь легко – бесподобное и незаменимое – приземлить и опошлить. В том кладбищенском помещении уже не будет ничего для него выдающегося. Выветрилось оно, оставив голый и ржавый металл. А чемодан и всё прочее, связанное с ним: ключ от тайны, доски судьбы, ларцы с набитыми в них сокровищами знаний? Всё перечисленное нами и разом позабытое, это необычайное явление – оказалось для него, по сути, и последним, и самым ярким событием в жизни. Всё это дармовое благо, будто нарочно появившееся у него, – как вычеркнуть его навсегда, вместе с надеждой на обладание вообще хоть чем-нибудь и сколько-нибудь нужным? Но не слишком мы увлеклись, так сказать, драматичностью происшедшего события? Так ли всё тут обстоит на самом деле? Может быть, мы ошибаемся, как и тот метущийся критик чужой жизни, выруливший из-за поворота её стремнины и сразу дающий полновесную оценку состояния нашего первого героя? Нет, мы не поддаёмся скоропалительности и не утверждаем наше заключение. Мы только видим, что лицо Босикомшина потускнело и очертилось угловатостью. И на замутнённые глаза опустились веки, словно в знак согласия нашему высказыванию.
Или он к чему-то другому прислушивался? Да, да, конечно, к другому. Наше рассуждение о теперешнем его состоянии, думается, им и не могло быть услышанным, и соглашаться ему ни с чем не довелось. Другое тут. Скоро и уже сейчас мы узнаем о том поточнее.