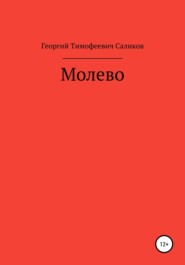По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Василеостровский чемодан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из-под дивана раздался протяжный высокий звук – пудель-невидимка, по-видимому, смачно зевнул от удовольствия.
ГЛАВА 6
«Куда же теперь идти»? – Босикомшин стоял напротив соседней двери, такой заветной, но и столь же недоступной. Почему он решил, будто дверь эта ему заветная, мы не берёмся сказать. Никто не предъявлял ему вообще никакого завета. И тогда, на остановке у Соловьёвского сада, ему тоже не был завещан ни один из троллейбусов, наличествующих в городе. Думается нам, что заветным становится попросту всё, что для него недоступно. Равенство такое. А произвелось это правило как раз после неудачной попытки выйти в законные пассажиры, аккурат в ту минуту, когда он был приговорён к пожизненному пешему труду. Теперь все вещи и места, заделав себя недоступными для него, естественным образом переходят в разряд заветных. Вот и нынешняя дверь тоже вполне подходила к данному обычаю. Ну, не сама дверь, а то пространство, что за ней. Заветное недоступно, а недоступное заветно. Вместе с тем, если рассудить взвешенно, то данное сочетание, конечно же, сущая несправедливость. И она покоя не даёт ни одному человеку. Тем не менее, коли есть правило, придётся ему подчиниться. Хотя нет. Для каждого правила есть своё противоправило. Оно всегда подспудно сидит в норове человека. Да и правил без исключений не бывает. И знаете, в сложившихся у нас обстоятельствах, любое исключение сродни надежде. Надежда всегда делает ставку на исключение из предопределения. И о ней уже был у нас эдакий замысловатый разговор, но с профессором, в минуту, когда тот искал потерянный ключ. Тоже ведь правомерное исключение. Простите за тавтологию. Но Босикомшин о том диалоге не знает, поэтому не возразил нам и не согласился, и вовсе рассуждать о том не стал. Он сел на холодную ступеньку лестницы и согнулся, обхватив колени. «Глупо, глупо, ой, как глупо всё».
По мере того, как холод камня проникал сквозь нетолстую одежду прямо в тело, пожизненный пешеход припоминал о начале нашей истории. А в начале, мы помним, он стоял на остановке общественного транспорта и ждал заветного троллейбуса. Куда-то задумывал ехать. Куда? Куда, куда – как обычно – искать счастья, то есть, некое недоступное состояние. Каждый горожанин с утра, когда выходит на тротуар вдоль домов, то, может быть, и не осознанно пускается на поиски счастья. Город настолько велик, многообразен и таинственен, что у него дённо-нощно есть в запасе заготовка счастливого конца для каждого законного его жителя и нелегального пришельца. В таком положении дел неизменно уверены все горожане, оттого-то и выходят на улицы. Вы никогда не замечали, что при выходе из дому, у вас непроизвольно появляется вздох облегчения? Это потому происходит у вас, что с выходом на пространства города наступает пора ожидания перемен. А кто не ожидает именно хороших перемен? Ну, есть, конечно, такие горожане, которые из-за мелких неудач не ждут ни от кого добра и желают вообще беды и вообще всему миру. Есть горожане даже и ещё хуже, страшно о них и сказать, а то и подумать. Давайте, не будем. Но и они, самые худшие горожане, втайне от себя ожидают именно доброй встречи. Выходя в город, они тоже намерены в нём отыскать счастье. Таков есть закон города, такова есть основа человеческого поселения, таков есть смысл первоначальной задумки. Такова сложившаяся природа. Она создана вместе с появлением первого прародителя городов. Кажется, Каин додумался до сего строительства. Бедный Каин. Так хотелось ему, изгнаннику Божьему, найти где-нибудь то, что в себе не имел! Счастье? Или чего ещё? И решил: потеря найдётся именно в городе, построенном для будущих чистокровных потомков изгнания. Так и сегодня думают многие народы мира. Каин построил город, конечно же, для того, чтоб найти в нём добро, так ему недостающее. Иначе, есть ли смысл во всём том дорогом устройстве? Как говорится, от добра – добра не ищут. Ведь и ныне, самые современные люди, не зная вовсе, что они тоже изгнанники Божьи, они, когда выстраивают город, притом выкладываясь полностью в него, первым делом определяют для себя лучшие условия найти потом добро, найти счастье, недостающее им по рождению. И люди, приезжающие в город из иных мест – тоже движутся таким же предчувствием. А если есть предчувствие, значит, и самый предмет где-то здесь скрывается неподалёку и пока не обнаруживает себя. Пока. Но…
Босикомшин встал и медленно спустился вниз. На сей раз, он вышел из дома не во двор, а на улицу. На линию, так на Васильевском острове названы длинные череды фасадов. Он глубоко и облегчённо вздохнул. Вот вдоль одной из таких линий и направился пожизненный пешеход навстречу… мы не знаем, какое в точности у него настало настроение… желает ли он в настоящий момент человечеству исключительно беды или ждёт от кого-нибудь немного добра, но… если есть хоть какая-нибудь линия… Босикомшин двигался вдоль вполне определённой линии. Пожелаем ему встретить удачу.
ГЛАВА 7
Клод Георгиевич Предтеченский уже начал возвращаться обратно к дому, где есть четвёртый этаж и капризный лифт. Внутри у профессора сидело двойственное настроение. Он вроде бы и повеселел, благодаря благополучной встрече в директорском кабинете, но в то же время и грусть возникла совершенно внезапно. Будто залетела вообще извне, из мира нездешнего, из-за пределов обычного человеческого ощущения жизни, и проникла прямо в грудную клетку профессора, вонзилась в душу и жарко там дышала. Откуда же всё-таки было ей взяться и чему благодаря? Где бы сыскать правильный ответ? Может быть, объяснения тому и нет. Просто, иногда бывает, что завязывается такое расположение души. Скажем, посередине, в центральной точке огромного моря полной безмятежности – вдруг появляется крутая кольцевая волна беспричинной такой тоски. Будто упал в море безмятежности камень чьей-то беды, не вашей, но кого-либо из близких вам людей, а вы о том не знаете и не идёте к нему на помощь. Волна поднимается в груди, и более ничего там нет. Или, вероятно, у вас произошла непоправимая и невосполнимая потеря, и она что-то прорвала в хрупком вашем спокойствии, но вы утраты ещё не осознаёте, но ощущение пробоины пытается вам подсказать о худом и неизменяемом случае. А возможно, внутри вас рождается тихий голос вовсе небывалого предчувствия, но что это за голос, и о чём предупреждает – о радости или скорби – тоже не понять. Только грудь внутри щемит, да щемит, и в щёме том всё как-то вперемешку: и сладко, и горько, и терпко, и мягко. А дыхание затеивается неглубоким и коротким. Ему будто бы не хватает живительной силы воздуха. Глубоко вздохнёшь, но голод не проходит. Наверное, то голодает не дыхание. Душа голодает. Они во веки веков рядом: дыхание и душа. Даже они – одно в другом. Немудрено и запутаться. Душа испытывает голод, а мы не знаем, чем такое чувство утолить. Мы вообще не знаем, как такое делается: душу – насытить. А если вдруг она просто потихоньку плачет, так попробуй, угадай, чем её унять. Бывают меж нас люди посчастливее, и они, конечно же, знают. Но далеко не все. Профессор, по-видимому, принадлежал к тем «далеко не всем», и с таким настроением, непонятым большинством населения, перешёл проезжую часть набережной и остановился у парапета на берегу. Там он облокотился о чугунную ограду и смотрел в ту сторону, куда текли воды реки. Они давно туда текли. Кроме того, в той стороне уверенно садилось солнце. И оно тоже привыкло туда садиться. Что же ещё было в той стороне – там, куда неизменно утекают воды реки и куда привычно садится солнце? На той, западной стороне, конечно же, располагается Запад, – место Земли, где обрели, и продолжают обретать себе новое место жительства многие приятели и просто знакомые или, приемлемо тут сказать, известные коллеги. Должно быть, на западе кривизна земли особая – она скатывает на себя любого, кто готов скатываться: воду, солнце, идеи, мысли, желания… и некоторые звёзды.
«Всё в этом мире склоняется к западу», – подумал Предтеченский.
ГЛАВА 8
А все линии Васильевского острова, известно, ведут как бы в никуда. Не в тупик, а именно в никуда, в смысле, нет продолжения. Они ведут непременно к набережной, что обрывается пред широкой водой. Босикомшин дошёл до гранитного ограждения суши и перегнулся через него, без определённого намерения разглядывая редкие водоросли в неожиданно прозрачной, вместе с тем, и бурой воде, обычно в народе называемой «чёрной». Затем взгляд, и тоже без намерения, переметнулся к памятнику Крузенштерну – знаменитому адмиралу и кругосветному путешественнику. «С этого места ушли в самое далёкое путешествие корабли легендарной экспедиции», – припомнил себе пешеход, без определённого намерения. Казалось бы, и действительно: где тут родиться назначенной мысли? Но другое интересно: в образе чего может иногда и внезапно продолжиться обычная линия, до того ведущая в решительное никуда? А она взяла, да просто продолжилась в память о той героической экспедиции, в ту путь-дорогу к самой дальней стороне, такой дальней, которая совершенно безвестно обитает на круглой земле. Лишь вокруг земного шара, оказывается, та дальняя дорога и протягивается. Интересно, правда? «Но особо далеко не уйдёшь, – подхватил нашу мысль пешеход, – всё равно окажешься там же, откуда ушёл по круглой земле». И взгляд на бронзового адмирала стал насмешливым. Нет, Босикомшин и думать не собирался унижать его мореплавательных достоинств. Насмешливость выскочила самовольно и по-доброму. Вот вам и линия. Говорят, что даже абсолютно прямой луч света, если он не встретит препятствие на пути через весь космос, воткнётся в свой источник с противоположной стороны. Так что, если тебя влечет идея уйти слишком далеко, то и придёшь ты чрезвычайно метко вновь к точке исхода. Ибо самое далёкое путешествие любого предмета – кругосветное. И если ты будешь направлять вострый взгляд в самую дальнюю точку Вселенной, то, чем дальше ты его устремляешь, тем больше у тебя шансов увидеть собственный затылок. Ибо наибольшее расстояние в мире замыкается на изначальную точку. И если ты устремишь вострую мысль в бесконечно неведомую для тебя сущность, то она, в конце концов, и внезапно для тебя обнаружит прежний источник, то есть, твою собственную личность. Ибо самая неразгаданная загадка для тебя – лично ты. Нет, во всех этих случаях ты не возвращаешься обратно. Ты движешься исключительно прямо вперёд и только прямо и только вперёд. Иначе тебе не дойти до того места, откуда ты отправил в путь себя, взгляд, мысль. Хм. Но бывают иные круговые пути. Это когда ты ходишь прямо по лесу или по степи, но без ориентиров, то опять же попадаешь на одно и то же место. Ты ходишь кругами. Ты заблуждаешься. Ибо тебе кажется, будто стези твои прямые. И теперь не выходит ли, что способен ты вообще только заблуждаться? Ибо и самая высокая точность выбранного тобой направления приводит тебя точно туда, откуда ты начал путь. В этом и заключается простота сути бесконечности: если человек уходит в бесконечность, значит, он действительно заблудился.
«Всюду только начало», – процитировал наш первый герой строчку из другого романа того же автора. «Оно – к тому же наисильнейший магнит», – дополнилось пространное размышление. Так-то, господа, видите, какие замечательные и мало для кого ожидаемые мысли посетили нашего первого героя, казалось бы, в тупиковой ситуации. Стоит ли после того, обладая точным знанием, вообще уходить, ни далеко, ни близко? «Я и вокруг того дурацкого дома недавно тоже крутился, будто в лесу или в степи, – продолжал Босикомшин линию мысли, – шёл, вроде бы прямо, как в бесконечной Вселенной, а пришёл к тому же дому того же мага. Магический дом, право зря и дурацкий. Магнетический. Притягивающий. А говорит, музыкант. Какое там! Маг он. Хе-хе, властитель начала, начальник». Ничего особо нового, конечно же, в данной мысли нет: и по части вообще кругов или магнитов, и по части начальственной профессии второго нашего героя, но…
«Что это прямо у спуска»? – Босикомшин, в момент отворачивания насмешливого, но незлобивого взгляда от памятника в боковую сторону, наткнулся всё тем же взглядом на маленькую девочку, в обеих руках держащую кукол за волосы. Куклы – явно не современного производства. Лицо ребёнка выражало радость от удачной находки. Тут же и мама, а, может быть, и бабушка или вообще нанятая воспитательница (трудно определить возраст и родственные отношения по одной лишь спине), одним словом, взрослая женщина отняла у неё те ценные пластмассовые изделия и бросила в угол до кучи с пустопорожними пластиковыми бутылками.
– Нельзя подбирать чужие вещи, – были слова той женщины, обращённые к воспитаннице не выясненного нами родства или рода иных отношений.
Уж очень знакомыми показались Босикомшину эти старомодные куклы. Внимание заострилось на них, а затем перекинулось к ребёнку. И здесь же, рядышком с ногами маленькой девочки показался ещё недавно так ловко ускользнувший от него и профессора уже забытый, но горячо желаемый таинственный профессорский чемодан. Тот одной половинкой удерживался на суше, то есть на нижней ступеньке спуска, а другой половинкой – колыхался на воде. Возле него покачивались две половинки прямоугольной потемневшей льдины – такой же величины, что и чемодан, кокетливо сталкиваясь и расходясь между собой попеременно разными концами. Что они этим хотели сказать? Решили себя сравнить с ним? Или его с собой?
– Вернулся, – шёпотом произнёс пожизненный пешеход, – всё, действительно, возвращается.
И уже он обратился непосредственно к чемодану звонким голосом:
– Прямо здесь, дорогой мой, и есть твоя самая дальняя точка твоего долгого пути»! – Профессиональный горожанин без сомнения, искренне обрадовался, поскольку начал заговаривать с неживым предметом на философские темы.
Женщина и девочка поднялись наверх и быстро отошли поодаль, оглядываясь на этого странного человека, говорящего с вещами.
Через полминуты руки Босикомшина не без трепета несли гениальное изделие профессора-мага. Они преклонено держали развёрнутый чемодан, наподобие единственной в мире книги со священным текстом, раскрытой на месте самого сильного западания в душу откровения. И ровный взгляд, будто уже давно и без сожаления потерявший с таким трудом нажитую иронию, случившуюся по поводу Крузенштерна, светился теперь благоговением, ниспосланным ему как бы ниоткуда и совершенно даром. Фраза, брошенная той мамой или бабушкой – «нельзя подбирать чужие вещи» – его, конечно же, не касалась. Он уже не маленький. Так, удерживая раскрытый чемодан-книгу впереди себя на вытянутых руках, Босикомшин, с просветлённым взором немигающих глаз, поднялся по ступенькам на панель и торжественно двинулся в сторону того места, где есть уединённая каюта на заброшенном корабле. Ноги сами шли туда, потому что голова пока пребывала в затяжном беспамятстве о себе и потеряла умение управлять многочисленными частями сложного организованного остального тела. Ноги свободно переминались, по-видимому, отдав себя на произвол частной памяти, памяти ходьбы, закреплённой в нервных клетках автономно, без участия головы.
А тем же временем близилась очередная встреча наших героев. Столкновению ничего не мешало. Панель из плит красного гранита здесь довольно узкая, рассчитанная на человека полтора с чуть-чутью, и вероятность налететь на другого пешехода – стопроцентная. Тем более, ни тот, ни другой не смотрели вдоль панели перед собой. Один, как известно, был занят пришедшим к нему неведомым ранее душевным благоговением, другой – озабоченностью пока непонятым настроением души: то ли голода, то ли беспричинного плача.
ГЛАВА 9
Из-под ближайшей липы на гранитную панель выбежал круглый, словно мяч, пудель дымчатого окраса. Он молча бросился сначала к профессору, активно шевеля кончиком носа во все стороны, а затем, не раздумывая, кинулся навстречу Босикомшину, высунув кончик языка. Расстояние между нашими героями к этому моменту составляло не более трёх шагов. Тот и другой обратили внимание на собаку и таким образом вынуждены были увидеть друг друга не без печати усталости в глазах. В тот же час, делая широкие шаги по газону, к ним приблизился и отставной командир танка, между прочим, отгоняя концом поводка другую собаку исключительно другой породы или вовсе не имеющей таковой, «б/п» какой-нибудь, в общем-то, приблудного пса, пытающегося пристать к чистокровному пуделю.
– О! Егорыч. Э, и вы тут, – он чистосердечно обрадовался такой встрече, – вот и хорошо.
– Видите, – обратился он конкретно к Босикомшину, – там не дождались, так тут встретились.
Профессор рассеянно смотрел на всех четверых: на пуделя, соседа, чемодан и пешехода. Отогнанный приблудный пёс успел выпасть из его поля зрения. Возможно, описывая недавнее настроение Клода Георгиевича, мы говорили о предчувствии именно теперешнего представления. Не предвидение ли данной или подобной ей встреч порождало тогда неопределённую тоску? Не будем гадать. Впрочем, и на самом деле, от таинственной грусти так же беспричинно и сразу же не осталось и подобия тени. Она оборвалась и улетела, подобно ещё с осени оставшемуся листку на ближайшей липе, который лёгким порывом ветра сорвался с неё в тот же момент и тем же ветром был снесён за пределы взгляда, куда-то в сторону реки, и слился там с её течением. Уже сердце ничем не щемило, а душа перестала плакать. Предтеченский даже глубоко вздохнул и улыбнулся. Но всё-таки, вместе с усталым взглядом улыбка на лице получилась несветлой. И Босикомшин тоже улыбнулся, и тоже без особого блеска. А поза с чемоданом на вытянутых руках по направлению к профессору, тем не менее, могла восприняться в виде эдакой минуты вручения данного предмета законному обладателю. Поэтому, бесцветная улыбка пешехода могла показаться постороннему глазу почти официальной, необходимой по протоколу. Бывший танкист, как известно, заулыбался первым, поскольку первым же и обрадовался такой встрече. В отличие от других знакомцев, и улыбка его, закалённая в долгом служении отечеству, приняла чуть ли ни первую свежесть. Командир всё ещё оставался в тени лип, и лицо у него светилось, как если бы на его разглаженную поверхность падал прямой солнечный свет. Казалось, и собака тоже исключительно довольна – её куцый хвостик вертелся так же активно и так же в разные стороны, как перед тем у неё крутился матово поблёскивающий кончик носа.
– Ваш чемодан отыскался, – сказал Босикомшин и почему-то неожиданно для себя испытал вдруг выросшее из глубины души почти такое же довольство, что и пудель, – вот, возьмите.
– Да, вообще-то, спасибо, но… мне как-то неловко. Я же освободил ставшее ненужным изделие, отпустил «чемодан» в дальнее плавание, распрощался с ним навсегда. – Клод Георгиевич улыбнулся ещё заметнее, но с вяло извинительным оттенком.
– Бери, бери, Егорыч, вещь-то ценная.
– Угу, ценная, ха-ха, невероятно ценная вещь, – «Егорыч» не кокетничал, он действительно лучше всех здесь присутствующих знал о настоящей цене находки Босикомшина. Но для него она была, и мы давно знаем, уже в совершенно далёком прошлом. Даже допустимо сказать – обитала в чужой жизни.
– А мы по очереди будем нести, – сказал бывший военный. Он, как тому и подобает, оценив данную обстановку в значительной степени приближенной к экстремальной, принял решение и, вроде бы как отдал приказ, что ли, расположившемуся подле него контингенту.
Профессор не до конца понял, зачем и куда они втроём будут нести босикомшеву находку. Он произвёл взгляд недоумения, округлив очи, но не стал взирать на присутствующие тут одушевлённые и неодушевлённые предметы. И отвёл этот взгляд вверх, и с возникшим ниоткуда изумлением рассматривал уже странноватое какое-то небо, в равной степени состоящее из белого и голубого цветов. И там, тонким чутьём опытного музыканта, виделось ему происшествие, ни разу ещё не случающееся на веку человечества…
– Егорыч, ты же домой идёшь. И я – домой. И твой приятель тебя в доме дожидался, да не стерпел, ушёл, а теперь и он с удовольствием вернётся к тебе.
– Вернётесь ведь, правда? – продолжил сосед музыканта, обращаясь уже к Босикомшину, – конечно же, вернётесь, тем более, с такой находкой. Почему бы вам ни вернуться.
– А мы все к тебе пойдём, ведь и я давно у тебя не посиживал, – он снова навалился с инициативой на Предтеченского, – ну, собаку я у себя дома оставлю, это мигом – раз туда и раз обратно.
Профессор не знал, что отвечать. Гостям он, вообще-то, никогда не отказывал. Чаще даже бывал искренне рад. Жена, та, наоборот, от века не любила гостей, не искренне и не холодно, а так – не нужны они ей. Одни только волнения с готовкой на кухне да с сервировкой в комнате. Но сегодня у неё затяжной рабочий день, так что, если вынужденные посиделки ненадолго, то скандала удастся избежать.
– Ну, пошли, – решил Предтеченский. Независимо произошло такое волеизъявление или он поддался приказу соседа – мы не смогли определить по выражению лица. Он усмехнулся на один бок, и глаза выдали тусклый блеск.
Босикомшин вовсе не предполагал такого поворота в почти прямом пути вдоль набережной, перед тем вполне осознанно направленном. Он в данный час даже не пытался догадываться: о каком возвращении идёт речь? Кстати, а о чём он вообще сейчас думает? Продолжается ли прежняя мысль о кругосветке? Тогда и ответ у него готов: конечно, вернусь, коль всякий путь кругосветный. Но сознание пешехода уже порядком расшаталось, и в нём потерялась любая представимая ясность. Может быть, он теперь помышлял просто о ходьбе, обычной ходьбе человека по улице, о ходьбе пешком, так и так для него – пожизненным занятием. То есть, предстоящий путь уже всегда непосредственно связан собственно с жизнью. Стало быть, представление о пути образовывалось покрупнее, нежели просто ходьба, и даже значительно покрупнее, – такого крупного масштаба, что затруднительно вообразить. Здесь уже затронута именно жизненная стезя. Жизненная. Не много и немало. Но это лишь наши догадки. А он, оставаясь погруженным в смутные для нас мысли, положил чемодан на землю, соединил две дотоле раскрытые половинки и застегнул их между собой на крючочки. Пребывая некоторый период времени в наклонном положении, он и самим телом то ли высказывал сомнение по поводу решения командира, то ли показывал тому безропотное подчинение. А тут командирский пудель и подоспевший обратно сюда приблудный пёс дружно и одновременно точно изловчились снизу лизнуть ему в нос и губы.
– Пошли! – произвольно вырвалось у него из облизанных уст в адрес чрезмерно ласковых четвероногих.
– Ну, вот, все согласны, – командир танка и не колебался в мысли о том, что на его блестящее предложение кто-нибудь возразит.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА 1
Было бы всё действительно хорошо, но – ключ! Где взять ключ? Трое мужчин и собака стояли у дверей квартиры профессора, и каждый в меру личного замешательства испытывал часть общей затруднительности.
– Да, сосед, промашку ты дал с ключом. Так ведь и не нашёл того, что обычно выпадает на спуске?
– Дал, дал. Ключик-то уплыл. Был, да сплыл. Нет. Погодите. Он же в чемодане должен быть. А? Мил человек, мы же его, родимого в чемодане видели, вернее, на кукле, сидящей в нём, но достать не могли. А ну-ка, давайте откроем действительно дорогого, весьма дорогого, да поглядим. – Профессор и знать не знал, что куклы ещё в свежей нашей памяти стали мусором, столь же свежим, обогатившим кучу их дальних родственников по линии полимеров, там, в углу спуска набережной подле Благовещенского моста.
– А я пока собачку отведу, – сказал сосед, открывая дверь в коммунальную квартиру, – только в чемодане кукол никаких не было, Егорыч. Не было. Ты уже чего-то начал уставать. Галлюцинации у тебя появились, – и он проворно скрылся за дверью вместе с породистым пуделем дымчатого окраса.
Босикомшин опустил чемодан на пол, но помедлил с дальнейшими действиями. Не стал и приседать, чтобы половинки его открыть, а взял, да свободною рукой подёргал за ручку дверь профессорской квартиры. Та подалась и открылась.
– Что, нашли ключ? Ну, поздравляю, – сказал сосед, возвратясь, – а говорил, на кукле.
– Дверь и так была открыта, – сказал профессор со скрипуче-шепчущей озабоченностью в тоне.
– Ну, дела. Хе-хе. Сосед, ты ж сам забыл её запереть. И ещё, наверное, с утра.
– Забыл.