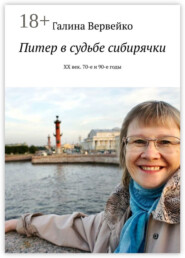По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Матильда Кшесинская – прима Императорского балета 1 том XIX век. Документальная повесть-роман о русском балете рубежа XIX—XX веков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В тот день, в воскресенье, 31 января в своём дневнике Маля Кшесинская записала: «Сегодня для всей нашей семьи торжественный день – отца бенефис, в честь его 50-летнего юбилея. Отцу прислали много телеграмм с поздравлениями… Все очень переживали за отца, чтобы ему не стало плохо, потому что отца встретили овациями, а он этого не ожидал. Когда отец пришёл в театр, через всю сцену до его уборной была разложена красная дорожка и играли военные марши. Уборная была красиво украшена».
Об этом событии вспоминал в своей книге «Наш балет» Плещеев: «На этот редкий праздник хореографического искусства собралась масса публики».
Далее критик сообщал о том, что за свою артистическую деятельность Кшесинский танцевал с 19-тью известными в Европе и России танцовщицами (а к началу ХХ века их станет 25!). В их числе в будущем будут и его дочери Юлия и Матильда.
После выпуска из балетной школы Феликс Иванович прошёл все ступени балетной карьеры. Начал он свою службу в театре с корифеев. Но уже и на этом месте смог обратить на себя внимание исполнением итальянского танца «Тарантелла». «Позы Кшесинского варшавская печать называла академическими. Заняв первое амплуа, артист производил особенный фурор в „Эсмеральде“, „Катарине“, „Тщетной предосторожности“, „Жизели“, „Красавице из Гандавы“ и др. балетах. Г-ну Кшесинскому много помогало то обстоятельство, что он не только увлекательно танцевал, но в то же время играл, создавал характеры, типы и драматические, и комические. Таким мы видим его и теперь», – продолжал Плещеев.
Когда Кшесинский впервые появился в Петербурге, то игра артиста произвела сенсацию, а его исполнение мазурки вызвало фурор.
За свою службу на Императорской сцене Феликс Иванович неоднократно удостаивался Высочайших подарков.
«В 1862 году, вместе с незабвенною любимицей публики – М. С. Петипа, он танцевал в Париже, где увлёк французов тою жемазуркой. Парижане, судя по отзывам Figaro, Le Moniteur universel, Revue et gazette musicale de Paris и мн. др. были в восторге.
Надо иметь большой запас сил, чтобы, протанцевав полстолетия, сохранить тот запас жизни и энергии, каким отличается и ныне Феликс Иванович. Пятидесятилетие деятельности – это дорогой праздник для артиста… дорогой потому, что он не повторяется… Г-н Кшесинский, как юбиляр, может с гордостью сказать, что он выступает на этом празднике как артист, как украшение труппы, а не как отцветший талант», – восхищался артистом критик. И продолжал: «С лёгкой руки Кшесинского… или, как выразился один из театральных летописцев, с лёгкой его ноги положено было начало процветания мазурки в нашем обществе. Большой свет учился у Феликса Ивановича танцевать мазурку. Да и в настоящее время у него масса учеников и учениц из среды высшего общества».
О самом празднестве Плещеев рассказывал так.
Юбиляр «когда приехал в театр, его встретили с музыкой представители труппы г-жи Горшенкова, Легат, Петипа, гг. Петипа, Л. И. Иванов, Гердт, Де-Сеньи, Карсавин, Литавкин и др. Г-н Кшесинский появился в „Пахите“, и ему устроили овацию, заставившую его заплакать».
После 2-го акта юбилейного спектакля началось публичное чествование золотого юбиляра – поднесение венков от его коллег из всех петербургских театров. Своего старого товарища по сцене краткой речью приветствовал М. И. Петипа. Его помощник Л. И. Иванов прочёл адрес. И юбиляру вручили при этом золотой венок. От публики Феликс Иванович получил серебряный щит с гербом города. На каждое подношение виновник торжества отвечал несколькими благодарными словами. В этот день ему также была «высочайше пожалована медаль для ношения на шее».
Вся семья артистов Кшесинских присутствовала на этом значительном в жизни их отца юбилее и гордилась им. Вместе со всеми была и младшая его дочь Матильда, которая в будущем не раз будет выходить на сцену вместе со своим знаменитым отцом.
«Перед последним актом воспитанницы и воспитанники ходили в ложу к Государю, – продолжала запись в дневнике юная Матильда. – Меня все Великие князья поздравляли с отца юбилеем. Великий князь Владимир сказал что-то про меня императрице, она меня спросила, сколько мне лет. И ещё что-то. Государь тоже со мной разговаривал. Спрашивал, которая я дочь у папаши и т.д., и тоже меня поздравлял».
О своём выступлении на этом бенефисе Маля записала: «После „Арлекинады“ сейчас было наше pas de deux. Я нисколько не боялась. Нас очень принимали и несколько раз вызывали». Потом её выступление все хвалили в уборной у отца, где собралось много народу.
А когда бенефис закончился, то Маля переоделась и пошла к отцу. «Папаша переодевался, и я его ждала в коридоре. Я с отцом пошла через кассу. В кассе и на улице папу ждала публика, и когда папа вышел, то все кричали „Браво!“ и ему аплодировали, пока мы не сели в карету. Мне было очень весело…»
В последних девятом и десятом классах уже шла усиленная подготовка к выпускным экзаменам в классе Христиана Петровича Иогансона в Театральной школе, и учениц из класса Иогансона по его просьбе в спектаклях Императорских театров не задействовали.
Участие в оперных и балетных спектаклях сначала Большого, а затем Мариинского театра учащихся Театральной школы было очень полезным для их будущей профессиональной деятельности. Они учились истории балета и театра, изучали традиции Императорских театров и видели на сцене лучших представителей своей профессии. Всё это помогало относиться к своему труду ответственно и гордиться национальной школой русского балета, стараться в будущем стать достойными её представителями.
Мариинский театр был одним из ведущих музыкальных театров России. История его возникновения относилась к 1783 году, когда был открыт Каменный театр на Карусельной площади (позднее её назовут Театральной). Тогда, 12 июля, был издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой», а 6 октября торжественно открыт Большой театр. При его открытии давалась опера Джованни Паизиелло «Лунный мир».
В Большом театре русская труппа выступала попеременно с итальянской и французской. Шли также драматические спектакли, иногда устраивались вокально-инструментальные концерты.
Обретение Большим театром своего дома привело к становлению оперной и балетной культуры в России. Вплоть до конца XVIII века в Петербурге главенствовали итальянские и французские балетмейстеры – Франц Гильфердинг, Шарль Лепик, Гаспаро Анджиолини, Джузеппе Канциани.
Петербург продолжал строиться, облик его постоянно менялся. Через столетие, после его возникновения, в 1802—1803 годах перестроили и Большой театр. Но через несколько лет, в ночь на 1 января 1811 года, в театре разразился грандиозный пожар. Богатое внутренне убранство за два дня погибло в огне, серьёзно пострадал и его фасад.
Санкт-Петербургский Большой (Каменный) театр в XIX веке
3 февраля 1918 года восстановленный Большой театр открылся вновь прологом «Аполлон и Паллада» и балетом знаменитого французского балетмейстера, работавшего много лет в России, Шарля Дидло «Зефир и Флора» на музыку итальянского композитора, приглашённого в Большой театр – Катарино Кавоса.
В первой половине XIX века в Большом театре развернулась деятельность знаменитых талантливых балетмейстеров Ивана Вальберха и Шарля Дидло. Иван Вальберх (Лесогоров) являлся первым русским постановщиком балетов. Из танцовщиков в то время прославились Адам Глушковский, Евгения Колосова, Евдокия Истомина, Вера Зубова и Екатерина Телешева. Это были первые балетные знаменитости со славянскими фамилиями.
20-30-е годы XIX века считались «золотым веком» Большого театра Санкт-Петербурга. В «послепожарную эпоху» его репертуар включал «Волшебную флейту», «Посещение из Сераля», «Милосердие Тита» Моцарта. Русскую публику пленяли и такие спектакли, как «Золушка», «Семирамида», «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник» Россини. Для зарождения русской романтической оперы много значила премьера «Вольного стрелка»Вебера в мае 1824 года. Игрались водевили Алябьева и Верстовского. Одной из самых любимых опер становится «Иван Сусанин» Кавоса. (Спектакль был в репертуаре вплоть до появления оперы Глинки на тот же сюжет).
Легендарной была фигура Шарля Дидло. С его именем связано зарождение мировой славы русского балета. В эти годы завсегдатаем Петербургского Большого театра был Пушкин, который запечатлел его в своих бессмертных стихах. «Там и Дидло венчался славой…», – писал он в романе «Евгений Онегин». О своей любимице балерине Авдотье Истоминой поэт говорил:
«Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена
Стоит Истомина, она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьёт, то разовьёт
И быстрой ножкой ножку бьёт».
В Большом театре Петербурга гастролировали зарубежные танцовщики из Италии и Франции – Мария Тальони, Жюль Перро, Фанни Эльслер и другие.
С целью улучшения акустики, архитектором Альберто Кавосом – сыном композитора и капельмейстера – купольное перекрытие театрального зала было заменено плоским. Над ним была размещена художественная мастерская – зал для расписывания декораций. В зрительном зале были убраны колонны, которые затрудняли обзор и искажали акустику. Зал получил привычную форму подковы, увеличились его длина и высота. Зал стал вмещать до двух тысяч зрителей.
Спектакли перестроенного театра возобновились представлением оперы Глинки «Жизнь за царя» 27 ноября 1936 года. Ровно через шесть лет, 27 ноября 1842 года, состоялась премьера второй оперы Глинки «Руслан и Людмила». Эти две премьеры были большими событиями в истории русской культуры. Одновременно на сцене Большого театра шли и шедевры европейской музыки: оперы Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти, Верди, Мейербера, Гуно, Обера, Тома.
Балетом руководили Жюль Перро, позднее – Артюр Сен-Леон.
С 1843 Большой театр абонировала итальянская оперная группа. С его сцены звучали голоса Джованни Рубини, Полины Виардо, Аделины Патти, Джудитты Гризи.
В 1847 году на этой сцене дебютировал Мариус Петипа. Сначала как танцовщик, а затем и хореограф. В балетах выступали Е. Вазем, Т. Стуколкин, К. Розати, Л. Иванов, М. Муравьёва,М. Суровщикова-Петипа, В. Цукки и многие другие известные артисты.
К Императорским театрам относились в то время Александринский театр, находящийся на Невском проспекте и завершающий ансамбль Росси на Театральной улице, где находилась Театральная школа, и Театр-цирк, находящийся напротив Большого театра. Со временем спектакли русской оперной труппы были перенесены на их сцены. В Большом театре продолжались выступления балетной труппы и итальянской оперы.
В 1859 году Театр-цирк сгорел. На его месте тем же архитектором Альберто Кавосом был построен новый театр. Это и был всем известный Мариинский театр. А назван он был в честь царствующей в то время Императрицы Марии Александровны – супруги Александра II и матери Александра III.
Глава 10. Жизнь балетной семьи Кшесинских в восьмидесятые годы
В годы учёбы в Театральной школе, в средних классах, Матильда начала вести дневник. И если воспитанникам и воспитанницам, живущим в училище, воспитатели практически запрещали это делать по каким-то причинам, то в семье Кшесинских это поощрялось. И Маля делала записи в тетрадях, указывая даты, как на польском, так и на русском языках. И когда Кшесинская жила в России, то все эти записи хранила в своём особняке. (Кое-что до отъезда из России она успела передать позже в Театральный музей Бахрушина). Иногда их перечитывала, и в это время возвращалась в счастливые времена своего детства и юности.
Начало записей относится к началу ноября 1886 года. В одних тетрадях она записывала о репетициях и выступлениях в театре, учёбе в Театральной школе, а в других – о жизни своей артистической родительской семьи.
1886 ГОД
Ноябрь
Дневниковые записи Кшесинской начинаются с выступлений и репетиций в театре – со 2 ноября. Девушке в то время было 14 лет. Описание же семейной жизни начинается с воскресенья, 30 ноября.
Обычно в выходные дни Матильда по утрам посещала церковь с кем-нибудь из членов семьи Кшесинских. Она ходила в костёл и молилась. Это было обязательным особенно в дни религиозных праздников. И для Мали это с детства было естественным, она глубоко верила в Бога и молилась от всей души.
Ей надолго запомнилась одна проповедь ксендза – о Трёх королях. Это было перед началом рождественского поста. И она в тот день после богослужения ещё осталась в церкви, чтобы в тишине помолиться.
Легенда эта появилась в Польше ещё в Средневековье. Три короля – Каспар, Мельхиор и Бальтазар пришли к новорождённому Христу с дарами, признав в Нём Царя царей. (В православии это были волхвы). Подарки их были символичны: ладан признавал его божественную сущность, золото – высокое положение, а смирна – символ будущей жертвы Христа во имя бессмертия всех людей. Символами Трёх королей были буквы К+M+ В, их писали на домах мелом, а значение их таково: «Христе Боже, благослови этот дом!»
После утреннего кофе молодёжь (братья – Филипп и Иосиф, и сестра Юлия с Малей) любили покататься на лошадях. У них в семье были свои – Свояк и Урбан. Брат Юзеф часто сам отвозил на лошади в шарабане или в санях младшую сестру в Театральную школу. Но иногда нанимали извозчика или ехали на конке.
К обеду обычно заканчивались частные уроки у отца, которые он проводил в богатых домах или у себя дома. Частенько у Кшесинских в квартире учились танцу правоведы. И детям, которые учились в Театральной школе хореографии, было смешно смотреть, как учились этой премудрости не совсем способные к танцу молодые люди.
Об этом событии вспоминал в своей книге «Наш балет» Плещеев: «На этот редкий праздник хореографического искусства собралась масса публики».
Далее критик сообщал о том, что за свою артистическую деятельность Кшесинский танцевал с 19-тью известными в Европе и России танцовщицами (а к началу ХХ века их станет 25!). В их числе в будущем будут и его дочери Юлия и Матильда.
После выпуска из балетной школы Феликс Иванович прошёл все ступени балетной карьеры. Начал он свою службу в театре с корифеев. Но уже и на этом месте смог обратить на себя внимание исполнением итальянского танца «Тарантелла». «Позы Кшесинского варшавская печать называла академическими. Заняв первое амплуа, артист производил особенный фурор в „Эсмеральде“, „Катарине“, „Тщетной предосторожности“, „Жизели“, „Красавице из Гандавы“ и др. балетах. Г-ну Кшесинскому много помогало то обстоятельство, что он не только увлекательно танцевал, но в то же время играл, создавал характеры, типы и драматические, и комические. Таким мы видим его и теперь», – продолжал Плещеев.
Когда Кшесинский впервые появился в Петербурге, то игра артиста произвела сенсацию, а его исполнение мазурки вызвало фурор.
За свою службу на Императорской сцене Феликс Иванович неоднократно удостаивался Высочайших подарков.
«В 1862 году, вместе с незабвенною любимицей публики – М. С. Петипа, он танцевал в Париже, где увлёк французов тою жемазуркой. Парижане, судя по отзывам Figaro, Le Moniteur universel, Revue et gazette musicale de Paris и мн. др. были в восторге.
Надо иметь большой запас сил, чтобы, протанцевав полстолетия, сохранить тот запас жизни и энергии, каким отличается и ныне Феликс Иванович. Пятидесятилетие деятельности – это дорогой праздник для артиста… дорогой потому, что он не повторяется… Г-н Кшесинский, как юбиляр, может с гордостью сказать, что он выступает на этом празднике как артист, как украшение труппы, а не как отцветший талант», – восхищался артистом критик. И продолжал: «С лёгкой руки Кшесинского… или, как выразился один из театральных летописцев, с лёгкой его ноги положено было начало процветания мазурки в нашем обществе. Большой свет учился у Феликса Ивановича танцевать мазурку. Да и в настоящее время у него масса учеников и учениц из среды высшего общества».
О самом празднестве Плещеев рассказывал так.
Юбиляр «когда приехал в театр, его встретили с музыкой представители труппы г-жи Горшенкова, Легат, Петипа, гг. Петипа, Л. И. Иванов, Гердт, Де-Сеньи, Карсавин, Литавкин и др. Г-н Кшесинский появился в „Пахите“, и ему устроили овацию, заставившую его заплакать».
После 2-го акта юбилейного спектакля началось публичное чествование золотого юбиляра – поднесение венков от его коллег из всех петербургских театров. Своего старого товарища по сцене краткой речью приветствовал М. И. Петипа. Его помощник Л. И. Иванов прочёл адрес. И юбиляру вручили при этом золотой венок. От публики Феликс Иванович получил серебряный щит с гербом города. На каждое подношение виновник торжества отвечал несколькими благодарными словами. В этот день ему также была «высочайше пожалована медаль для ношения на шее».
Вся семья артистов Кшесинских присутствовала на этом значительном в жизни их отца юбилее и гордилась им. Вместе со всеми была и младшая его дочь Матильда, которая в будущем не раз будет выходить на сцену вместе со своим знаменитым отцом.
«Перед последним актом воспитанницы и воспитанники ходили в ложу к Государю, – продолжала запись в дневнике юная Матильда. – Меня все Великие князья поздравляли с отца юбилеем. Великий князь Владимир сказал что-то про меня императрице, она меня спросила, сколько мне лет. И ещё что-то. Государь тоже со мной разговаривал. Спрашивал, которая я дочь у папаши и т.д., и тоже меня поздравлял».
О своём выступлении на этом бенефисе Маля записала: «После „Арлекинады“ сейчас было наше pas de deux. Я нисколько не боялась. Нас очень принимали и несколько раз вызывали». Потом её выступление все хвалили в уборной у отца, где собралось много народу.
А когда бенефис закончился, то Маля переоделась и пошла к отцу. «Папаша переодевался, и я его ждала в коридоре. Я с отцом пошла через кассу. В кассе и на улице папу ждала публика, и когда папа вышел, то все кричали „Браво!“ и ему аплодировали, пока мы не сели в карету. Мне было очень весело…»
В последних девятом и десятом классах уже шла усиленная подготовка к выпускным экзаменам в классе Христиана Петровича Иогансона в Театральной школе, и учениц из класса Иогансона по его просьбе в спектаклях Императорских театров не задействовали.
Участие в оперных и балетных спектаклях сначала Большого, а затем Мариинского театра учащихся Театральной школы было очень полезным для их будущей профессиональной деятельности. Они учились истории балета и театра, изучали традиции Императорских театров и видели на сцене лучших представителей своей профессии. Всё это помогало относиться к своему труду ответственно и гордиться национальной школой русского балета, стараться в будущем стать достойными её представителями.
Мариинский театр был одним из ведущих музыкальных театров России. История его возникновения относилась к 1783 году, когда был открыт Каменный театр на Карусельной площади (позднее её назовут Театральной). Тогда, 12 июля, был издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой», а 6 октября торжественно открыт Большой театр. При его открытии давалась опера Джованни Паизиелло «Лунный мир».
В Большом театре русская труппа выступала попеременно с итальянской и французской. Шли также драматические спектакли, иногда устраивались вокально-инструментальные концерты.
Обретение Большим театром своего дома привело к становлению оперной и балетной культуры в России. Вплоть до конца XVIII века в Петербурге главенствовали итальянские и французские балетмейстеры – Франц Гильфердинг, Шарль Лепик, Гаспаро Анджиолини, Джузеппе Канциани.
Петербург продолжал строиться, облик его постоянно менялся. Через столетие, после его возникновения, в 1802—1803 годах перестроили и Большой театр. Но через несколько лет, в ночь на 1 января 1811 года, в театре разразился грандиозный пожар. Богатое внутренне убранство за два дня погибло в огне, серьёзно пострадал и его фасад.
Санкт-Петербургский Большой (Каменный) театр в XIX веке
3 февраля 1918 года восстановленный Большой театр открылся вновь прологом «Аполлон и Паллада» и балетом знаменитого французского балетмейстера, работавшего много лет в России, Шарля Дидло «Зефир и Флора» на музыку итальянского композитора, приглашённого в Большой театр – Катарино Кавоса.
В первой половине XIX века в Большом театре развернулась деятельность знаменитых талантливых балетмейстеров Ивана Вальберха и Шарля Дидло. Иван Вальберх (Лесогоров) являлся первым русским постановщиком балетов. Из танцовщиков в то время прославились Адам Глушковский, Евгения Колосова, Евдокия Истомина, Вера Зубова и Екатерина Телешева. Это были первые балетные знаменитости со славянскими фамилиями.
20-30-е годы XIX века считались «золотым веком» Большого театра Санкт-Петербурга. В «послепожарную эпоху» его репертуар включал «Волшебную флейту», «Посещение из Сераля», «Милосердие Тита» Моцарта. Русскую публику пленяли и такие спектакли, как «Золушка», «Семирамида», «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник» Россини. Для зарождения русской романтической оперы много значила премьера «Вольного стрелка»Вебера в мае 1824 года. Игрались водевили Алябьева и Верстовского. Одной из самых любимых опер становится «Иван Сусанин» Кавоса. (Спектакль был в репертуаре вплоть до появления оперы Глинки на тот же сюжет).
Легендарной была фигура Шарля Дидло. С его именем связано зарождение мировой славы русского балета. В эти годы завсегдатаем Петербургского Большого театра был Пушкин, который запечатлел его в своих бессмертных стихах. «Там и Дидло венчался славой…», – писал он в романе «Евгений Онегин». О своей любимице балерине Авдотье Истоминой поэт говорил:
«Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена
Стоит Истомина, она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьёт, то разовьёт
И быстрой ножкой ножку бьёт».
В Большом театре Петербурга гастролировали зарубежные танцовщики из Италии и Франции – Мария Тальони, Жюль Перро, Фанни Эльслер и другие.
С целью улучшения акустики, архитектором Альберто Кавосом – сыном композитора и капельмейстера – купольное перекрытие театрального зала было заменено плоским. Над ним была размещена художественная мастерская – зал для расписывания декораций. В зрительном зале были убраны колонны, которые затрудняли обзор и искажали акустику. Зал получил привычную форму подковы, увеличились его длина и высота. Зал стал вмещать до двух тысяч зрителей.
Спектакли перестроенного театра возобновились представлением оперы Глинки «Жизнь за царя» 27 ноября 1936 года. Ровно через шесть лет, 27 ноября 1842 года, состоялась премьера второй оперы Глинки «Руслан и Людмила». Эти две премьеры были большими событиями в истории русской культуры. Одновременно на сцене Большого театра шли и шедевры европейской музыки: оперы Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти, Верди, Мейербера, Гуно, Обера, Тома.
Балетом руководили Жюль Перро, позднее – Артюр Сен-Леон.
С 1843 Большой театр абонировала итальянская оперная группа. С его сцены звучали голоса Джованни Рубини, Полины Виардо, Аделины Патти, Джудитты Гризи.
В 1847 году на этой сцене дебютировал Мариус Петипа. Сначала как танцовщик, а затем и хореограф. В балетах выступали Е. Вазем, Т. Стуколкин, К. Розати, Л. Иванов, М. Муравьёва,М. Суровщикова-Петипа, В. Цукки и многие другие известные артисты.
К Императорским театрам относились в то время Александринский театр, находящийся на Невском проспекте и завершающий ансамбль Росси на Театральной улице, где находилась Театральная школа, и Театр-цирк, находящийся напротив Большого театра. Со временем спектакли русской оперной труппы были перенесены на их сцены. В Большом театре продолжались выступления балетной труппы и итальянской оперы.
В 1859 году Театр-цирк сгорел. На его месте тем же архитектором Альберто Кавосом был построен новый театр. Это и был всем известный Мариинский театр. А назван он был в честь царствующей в то время Императрицы Марии Александровны – супруги Александра II и матери Александра III.
Глава 10. Жизнь балетной семьи Кшесинских в восьмидесятые годы
В годы учёбы в Театральной школе, в средних классах, Матильда начала вести дневник. И если воспитанникам и воспитанницам, живущим в училище, воспитатели практически запрещали это делать по каким-то причинам, то в семье Кшесинских это поощрялось. И Маля делала записи в тетрадях, указывая даты, как на польском, так и на русском языках. И когда Кшесинская жила в России, то все эти записи хранила в своём особняке. (Кое-что до отъезда из России она успела передать позже в Театральный музей Бахрушина). Иногда их перечитывала, и в это время возвращалась в счастливые времена своего детства и юности.
Начало записей относится к началу ноября 1886 года. В одних тетрадях она записывала о репетициях и выступлениях в театре, учёбе в Театральной школе, а в других – о жизни своей артистической родительской семьи.
1886 ГОД
Ноябрь
Дневниковые записи Кшесинской начинаются с выступлений и репетиций в театре – со 2 ноября. Девушке в то время было 14 лет. Описание же семейной жизни начинается с воскресенья, 30 ноября.
Обычно в выходные дни Матильда по утрам посещала церковь с кем-нибудь из членов семьи Кшесинских. Она ходила в костёл и молилась. Это было обязательным особенно в дни религиозных праздников. И для Мали это с детства было естественным, она глубоко верила в Бога и молилась от всей души.
Ей надолго запомнилась одна проповедь ксендза – о Трёх королях. Это было перед началом рождественского поста. И она в тот день после богослужения ещё осталась в церкви, чтобы в тишине помолиться.
Легенда эта появилась в Польше ещё в Средневековье. Три короля – Каспар, Мельхиор и Бальтазар пришли к новорождённому Христу с дарами, признав в Нём Царя царей. (В православии это были волхвы). Подарки их были символичны: ладан признавал его божественную сущность, золото – высокое положение, а смирна – символ будущей жертвы Христа во имя бессмертия всех людей. Символами Трёх королей были буквы К+M+ В, их писали на домах мелом, а значение их таково: «Христе Боже, благослови этот дом!»
После утреннего кофе молодёжь (братья – Филипп и Иосиф, и сестра Юлия с Малей) любили покататься на лошадях. У них в семье были свои – Свояк и Урбан. Брат Юзеф часто сам отвозил на лошади в шарабане или в санях младшую сестру в Театральную школу. Но иногда нанимали извозчика или ехали на конке.
К обеду обычно заканчивались частные уроки у отца, которые он проводил в богатых домах или у себя дома. Частенько у Кшесинских в квартире учились танцу правоведы. И детям, которые учились в Театральной школе хореографии, было смешно смотреть, как учились этой премудрости не совсем способные к танцу молодые люди.