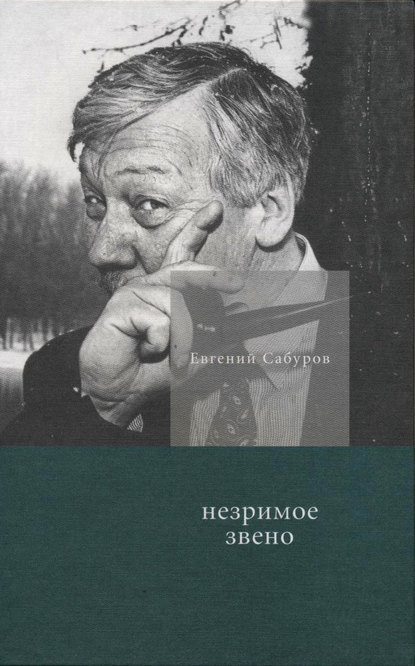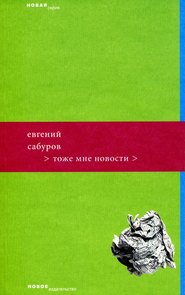По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
из домов и из трамваев
из мостов, и я, листая
улицы вошел в вокзал,
где стремительнейший поезд
разрывая теплый воздух
разгремелся разбегаясь
выстрелом сухим и грозным.
Я же влажный нежелезный
и по сути и по телу,
для вокзала бесполезный,
что я тут собрался делать?
Что приперся и стою?
То ли сесть на электричку,
то ли прочирикать птичкой
жизнь свою
в своем раю?
То ли сесть, покинуть город,
яблоко свое достать
и хрумчать им зло и гордо,
пока поезд будет мчать?
То ли развернуться важно,
и совсем уйти с вокзала?
Нам, мол, нежелезным, влажным
много ль надо? – надо мало.
Я стою. За мной Пандора,
притащив дурацкий короб,
ждет, когда же ей раздоры
выпускать на этот город.
Уходи-ка ты домой
да лицо свое умой,
также руки б не мешало.
Нас и без тебя достало.
«Даже верить невозможно…»
Даже верить невозможно
в то, что жизнь легка, проста
и ясна как пустота
плоско-блеклая, порожняя.
В ней извивы, глубина,
смерть ее сопровождает,
даже если не видна,
мысли бедные рожает.
И в круговращеньи воль,
в обреченности осенней
анекдота злая соль
проступает на коленях.
Голенький стоишь впотьмах,
думаешь: «– а может статься,
чтобы не сойти с ума,
надо просто улыбаться».
Море светлое вперед
простирается до края
взгляда. Я живу наоборот
тем вещам, что понимаю.
Я балдею, я стою,
хоть и невозможно верить.
Волю шаткую свою
твердо заношу в потери.
Тонкий профиль пустоты,
осязаемый в подводном
царстве – чаемая ты,
голод, познанный голодным.
Возвращайся, возвращайся,
мой усталый теплый кролик,
сложно понимая счастье,
но не выходя из роли.
И стремясь в моря молитвы
порознь и вместе вы
ускользая похвалите
мир белесой синевы.
«Был август глух к страданьям всех супругов…»
Был август глух к страданьям всех супругов,
был август скуп на шепот и на крик.
Был август как старик похоронивший друга
последнего и не читавший книг.
Он медленно бродил по набережной Ялты,
подкармливая чаек и жуя
свой одинокий хлеб, и сам себе семья
под шляпу заправлял желтеющие патлы.
Седые августы числом сорок четыре
из мостов, и я, листая
улицы вошел в вокзал,
где стремительнейший поезд
разрывая теплый воздух
разгремелся разбегаясь
выстрелом сухим и грозным.
Я же влажный нежелезный
и по сути и по телу,
для вокзала бесполезный,
что я тут собрался делать?
Что приперся и стою?
То ли сесть на электричку,
то ли прочирикать птичкой
жизнь свою
в своем раю?
То ли сесть, покинуть город,
яблоко свое достать
и хрумчать им зло и гордо,
пока поезд будет мчать?
То ли развернуться важно,
и совсем уйти с вокзала?
Нам, мол, нежелезным, влажным
много ль надо? – надо мало.
Я стою. За мной Пандора,
притащив дурацкий короб,
ждет, когда же ей раздоры
выпускать на этот город.
Уходи-ка ты домой
да лицо свое умой,
также руки б не мешало.
Нас и без тебя достало.
«Даже верить невозможно…»
Даже верить невозможно
в то, что жизнь легка, проста
и ясна как пустота
плоско-блеклая, порожняя.
В ней извивы, глубина,
смерть ее сопровождает,
даже если не видна,
мысли бедные рожает.
И в круговращеньи воль,
в обреченности осенней
анекдота злая соль
проступает на коленях.
Голенький стоишь впотьмах,
думаешь: «– а может статься,
чтобы не сойти с ума,
надо просто улыбаться».
Море светлое вперед
простирается до края
взгляда. Я живу наоборот
тем вещам, что понимаю.
Я балдею, я стою,
хоть и невозможно верить.
Волю шаткую свою
твердо заношу в потери.
Тонкий профиль пустоты,
осязаемый в подводном
царстве – чаемая ты,
голод, познанный голодным.
Возвращайся, возвращайся,
мой усталый теплый кролик,
сложно понимая счастье,
но не выходя из роли.
И стремясь в моря молитвы
порознь и вместе вы
ускользая похвалите
мир белесой синевы.
«Был август глух к страданьям всех супругов…»
Был август глух к страданьям всех супругов,
был август скуп на шепот и на крик.
Был август как старик похоронивший друга
последнего и не читавший книг.
Он медленно бродил по набережной Ялты,
подкармливая чаек и жуя
свой одинокий хлеб, и сам себе семья
под шляпу заправлял желтеющие патлы.
Седые августы числом сорок четыре
Другие электронные книги автора Евгений Сабуров
Тоже мне новости




 1.6
1.6