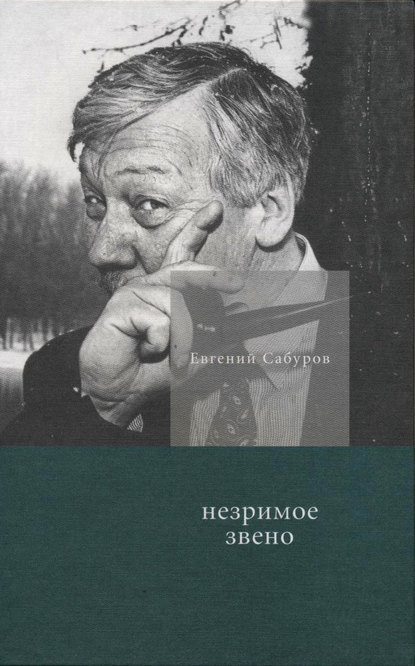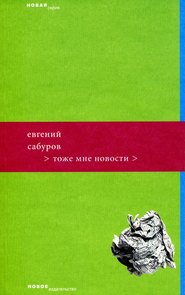По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из подъезда вышел вон
Николай Иваныч.
И какой тебе резон,
ты же врать не станешь?
Он заехал не ко мне,
ни к Петру, ни к Павлу.
Но приятно знать во сне,
что тебя листают,
что тобой оборотясь
призраки являются,
незавязанная связь
будоражит яйца.
В небо пущена стрелой
неподвижность встречи,
это битое стекло,
это тело всем назло,
мартовские плечи.
Я смотрю устало вниз.
Как летать легко мне!
Примирись и улыбнись,
улыбнись спокойно.
«Пыльный подоконник. Переплеты рамы…»
Пыльный подоконник. Переплеты рамы.
Канцелярский стол и полки желтоваты.
В красноте заката
на обоях заплясала
тень от лампы.
– Как болят колени! – ты сказала.
Пьяный обернулся к лицам окон,
несочувствующею рукою вверх подался,
на пол медленно сползая.
Пепел на полу. Усталость.
Он садился как-то боком.
– У меня болят колени, – ты сказала.
«Зачем же властвовать и задавать вопросы…»
Зачем же властвовать и задавать вопросы?
Поют скворцы, и пьют вино
у магазина холодным майским утром.
Нам дано
быть мудрыми,
но это мы отбросим.
Зачем же властвовать и мелкой сытой дробью
свой голос насыщать?
Пятиэтажная стена на зелень вдовью
глядит как на тщету душа
и ах! как хороша
воздушная листва, наполненная свежей кровью.
Чуть мы устали, нас уже забыли.
Сквозь ясное лицо, повернутое вверх,
струится свет,
которого и нет.
Когда хозяйку посещает смерть,
квартира богатеет пылью.
Зачем же властвовать?
Воздушная истома
холодною весной ложится на порог,
взлетела ласточка
и серый свой творог
прислюнила под самой крышей дома.
«Мы повергнуты в отчаянье…»
Мы повергнуты в отчаянье,
к нам обращены упреки,
нам назначены печальные,
справедливые уроки.
Мы в саду. Над нами звезды.
Холодно. Пора бы в дом —
посидеть, пока не поздно,
за обеденным столом.
Ты диктаторствуешь пылко,
мельтешится речь лихая,
только посреди улыбки
замолкая и вздыхая
вдруг. Закусками и уткой
мы сопровождаем водку.
То, что жить темно и жутко,
мы воспринимаем кротко.
Николай Иваныч.
И какой тебе резон,
ты же врать не станешь?
Он заехал не ко мне,
ни к Петру, ни к Павлу.
Но приятно знать во сне,
что тебя листают,
что тобой оборотясь
призраки являются,
незавязанная связь
будоражит яйца.
В небо пущена стрелой
неподвижность встречи,
это битое стекло,
это тело всем назло,
мартовские плечи.
Я смотрю устало вниз.
Как летать легко мне!
Примирись и улыбнись,
улыбнись спокойно.
«Пыльный подоконник. Переплеты рамы…»
Пыльный подоконник. Переплеты рамы.
Канцелярский стол и полки желтоваты.
В красноте заката
на обоях заплясала
тень от лампы.
– Как болят колени! – ты сказала.
Пьяный обернулся к лицам окон,
несочувствующею рукою вверх подался,
на пол медленно сползая.
Пепел на полу. Усталость.
Он садился как-то боком.
– У меня болят колени, – ты сказала.
«Зачем же властвовать и задавать вопросы…»
Зачем же властвовать и задавать вопросы?
Поют скворцы, и пьют вино
у магазина холодным майским утром.
Нам дано
быть мудрыми,
но это мы отбросим.
Зачем же властвовать и мелкой сытой дробью
свой голос насыщать?
Пятиэтажная стена на зелень вдовью
глядит как на тщету душа
и ах! как хороша
воздушная листва, наполненная свежей кровью.
Чуть мы устали, нас уже забыли.
Сквозь ясное лицо, повернутое вверх,
струится свет,
которого и нет.
Когда хозяйку посещает смерть,
квартира богатеет пылью.
Зачем же властвовать?
Воздушная истома
холодною весной ложится на порог,
взлетела ласточка
и серый свой творог
прислюнила под самой крышей дома.
«Мы повергнуты в отчаянье…»
Мы повергнуты в отчаянье,
к нам обращены упреки,
нам назначены печальные,
справедливые уроки.
Мы в саду. Над нами звезды.
Холодно. Пора бы в дом —
посидеть, пока не поздно,
за обеденным столом.
Ты диктаторствуешь пылко,
мельтешится речь лихая,
только посреди улыбки
замолкая и вздыхая
вдруг. Закусками и уткой
мы сопровождаем водку.
То, что жить темно и жутко,
мы воспринимаем кротко.
Другие электронные книги автора Евгений Сабуров
Тоже мне новости




 1.6
1.6