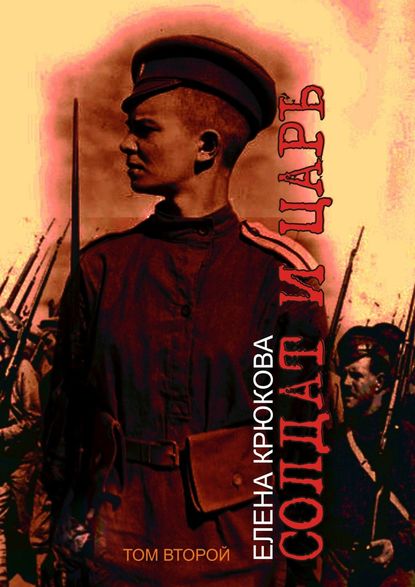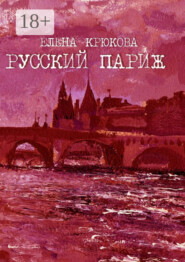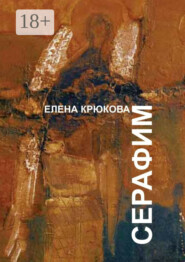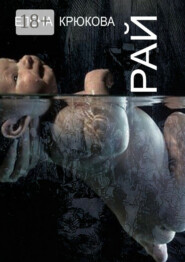По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С чего ты взяла, что я упаду!
И опять эта светлая, как молодой месяц, улыбка.
– Стасинька, прости, если я тебе грублю. Я в этом Тобольске как-то огрубела.
Анастасия взяла холодные руки сестры в свои. Возок колыхался студнем, кони тащились в гору.
– Ерунда. Не думай ни о чем плохом! Тут и так все плохое вокруг.
Она фыркнула.
– А Сибирь? Разве она плохая? Она же очень красивая. Я рада, что я увидала ее. А то смотришь на карте: Сибирь, Сибирь, а там все зеленым закрашено, это могучие леса.
– Таточка, а мы что, теперь уже не цари?
– А ты сама как думаешь, кто мы?
– Таточка, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
– Пианисткой.
– О-о-о! Как это красиво. Но это же надо так много заниматься на рояли!
– Да, надо. Работать надо везде и всегда.
– А я думала, ты хочешь стать врачом. Как наш доктор Боткин.
– Почему это?
– Ну ты же работала сестрой милосердия.
– Но и ты тоже. И все мы. Была война.
– У тебя так хорошо получалось перевязывать раны. И накладывать мази. Раненые говорили: мне не больно, не больно! А сами белые как мел лежат. И чуть не орут. От боли.
– А ты кем хочешь стать, Настюша?
Возок сильно накренило, и они завизжали и вцепились друг в дружку.
– Вот, я говорила, держись за меня! Я хочу стать цирковой артисткой. И ходить по проволоке! И чтобы все, все на меня смотрели!
– Ох, Stasie… – Татьяна подоткнула кудри под фетровую шапочку с темной вуалькой. – Ты так себя любишь?
– Нет, нет! Наплевать на меня! Я вас, вас всех люблю! Нас…
В возке впереди катили матрос Нагорный, цесаревич и Ольга.
Солнце насквозь пробивало лучами Ольгины серо-голубые глаза, и они светились изнутри. Вот они плыли на пароходе – уже свобода. Вот они катят в этих дурацких крохотных, как для кукол, телегах – свобода! А сейчас будет вокзал, и поезд. И свобода нестись по гладким бесконечным рельсам вдаль, все вдаль и вдаль. На неведомый Урал. Они увидят Урал! И это – свобода. А Дом? Где они будут жить. Что Дом? Дом – тюрьма? Но ведь жизнь – свобода.
…Не ври себе, Ольга, мать там плачет… писала ведь: окна закрасили белой краской…
…За телегами с царскими детьми ехали возки с челядью.
Бывшая гоф-лектриса, старая Шнейдер, ехала вместе с камер-фрау Тутельберг. Фрейлина Гендрикова – с баронессой Буксгевден и нянькой Теглевой. Служанка, девица Эрсберг, тряслась рядом с Пьером Жильяром и камердинером Гиббсом. Генерал-адъютант Татищев – с лакеем Труппом и поваром Харитоновым, и у их ног, на пучке сена, примостился поваренок Ленька Седнев. Поваренок Седнев, пока ехали, то и дело поднимал голову и спрашивал, глядя в скорбные лица седоков:
– А когда в поезд сядем, я с его высочеством смогу поиграть?
Татищев наклонялся к мальчишке, опускал ему картуз на нос:
– Ну конечно! Кто ж спорит! Еще досыта наиграетесь!
…Время то пласталось, прислоняясь, притираясь к земле, то поднималось высоко и расслаивалось, превращаясь в облака, в лужи, в крыши, в людской говор, во всю неимоверную даль пространства.
– Все, выгружайся! Прибыли! Вокзал!
Они вышли из возков – кто выскочил, кто выплыл, кто вывалился, кто ковылял, ощупывая ногами твердую землю. Графиня Гендрикова прислонила руку ко лбу и тихо охнула:
– Боже, как кружится голова!
– Это от дороги, – Пьер Жильяр ловко подхватил фрейлину под локоть, – сейчас пройдет… дышите глубже…
…Поезд был подан для них одних; больше ни для кого. Других пассажиров тут не было. Только они, дети царя и их слуги. В вагон второго класса посадили восемь человек; в вагон четвертого класса – девять. Поваренок Седнев видел – матрос несет цесаревича в другой вагон. Чуть не заплакал, кусал губы.
– Мы в разных вагонах! В разных!
– Да хватит ныть, – одернул его повар Харитонов, – лучше держи-ка корзину с провизией, неси!
Ленька тащил тяжелую корзину и был горд этим.
В корзине лежали: круглые широченные, как острова посреди Тобола, ситные, бутылки с жирным коровьим молоком, заткнутые бумагой, бутыль подсолнечного масла, в кастрюльке – вареные яйца, в пакетах из плотной бумаги – соль и сахар, в высокой стеклянной банке – малосольная рыба кунжа, а еще банка с моченой черемшой, а еще – банка с кислой капустой: в последнем селе, где меняли лошадей, черемшу, капусту и кунжу им принесли крестьянки. Низко кланялись, пятились, когда возки стронулись, утирали слезы.
Харитонов тоже нес корзину. В ней спали вареная картошка и соленые помидоры. И еще пачки макарон, и несколько пачек чая, и банка меда – прощальный подарок старой актрисы императорских театров Лизаветы Скоробогатовой, жившей напротив Губернаторского дома. Лизавета отдала мед в руки смущенной Анастасии, перекрестила ее, земно поклонилась и ушла.
Что-то ведь происходит навсегда. И никогда больше…
Погрузились в вагоны. Паровоз издал истеричный гудок, и поезд двинулся. Сначала медленно, потом быстрее. Колеса стучали, девочки переглядывались.
– Ольга, ты есть хочешь?
– А ты?
– Мы-то ладно. Алешинька, ты будешь есть?
Алексей лежал на верхней полке. Рядом с ним стоял Клим Нагорный.
– Климушка, а если поезд тряхнет, и братик упадет?
Матрос налег грудью на полку, расставил руки, изобразил из себя медведя.