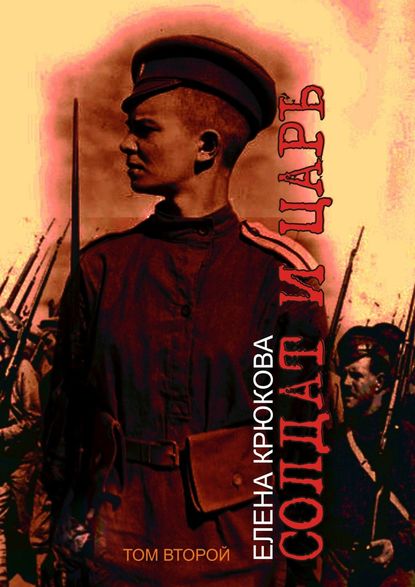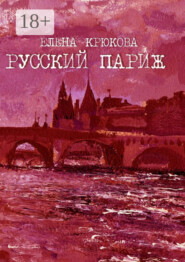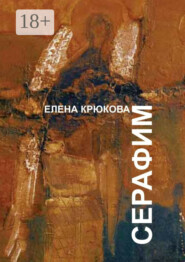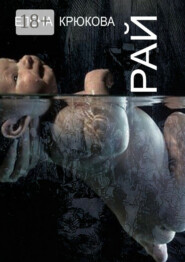По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Война – тоже дело Божие, если она праведна.
– А революция? Что, если революция выметет из дома весь мусор?
– Но я не мусор. И дети наши не мусор. И жизни людей не мусор.
– Жизнь сплетников, что отравили жизнь нам, вот мусор. Или ты не помнишь, как тебя в Петрограде травили? Да по всей России.
Говорили, тесно обнявшись, торопливо, слишком тихо, боясь не успеть, а вдруг не выскажут всего, тайного, больного, самого главного.
– Помню. Значит, принять Бога сурового?
– Да. Принять. Он один. И мы Его дети.
– Но Он казнит своих детей.
– Саранча тоже летела на поля и пастбища Египта. И дети Риццы погибли, и она бегала возле них, распятых, с пучком розог и отгоняла ворон, чтобы не выклевали детям глаза. И Давид побил несметно филистимлян ослиною челюстью. И Юдифь отрубила голову Олоферну. Бог проливал океаны крови. Но Бог и милостив.
Вот теперь, держа за плечи, отодвинул ее от себя. Глаза его, с прозрачными серыми радужками, горели ясно и чисто, будто он только что умылся.
– Вот. А ты говоришь – Бог суров.
– А ты говоришь – теодицея.
Оба тихо, прозрачно засмеялись.
Хотя не до смеха было.
Каждый смеялся, утешая другого.
…а еще царь не раз говорил жене, то ли внушая ей это, то ли утешая, то ли сам себе зубы заговаривая: вот они все, как заведенные, твердят – пролетарии, пролетарии, но милая, в России же никогда не было никаких пролетариев, русский пролетарий – это чушь, химера, это просто морок, его нет и не было, его выдумали, да кто угодно: эти бородачи Маркс и Энгельс, этот полоумный Плеханов, и этот… этот… как его… с волосами как осьминожьи щупальца… а!.. Троцкий… а у нас – в России – всяк, кто трудится в городе, всякий заводской рабочий, всякий халдей в ресторации, всякая горничная у барыньки, любой садовник, любой банщик, любой последний подметала в нумерах и дворник с метлой и лопатой – все связаны с деревней, у всех корни – на селе! В земле – корни! Россия – земельная страна, крестьянская земля! И никогда никакому крикливому Ленину не побороть русского мужика! Не свернуть ему шею, ведь он силен как бык! Весь этот большевизм как вспыхнул, так и погаснет. Причем только в городах. Деревню ему никогда не одолеть. Милая, говоришь, все наши красные солдаты, вся наша охрана – из деревень? Что ж, может, ты и права. Но это те, кто из нее удрал, кто соблазнился безнаказанными грабежами и убийствами. А тех, кто остался на земле, все равно больше. Все равно! Я – верю в это!
…и царица слушала, кивала, качала головой, вроде бы одобряя, и вроде бы не соглашаясь, – и, умолкнув, он не знал, что еще говорить; он брал ее руку, рука пахла вербеной, кислой капустой и зубным порошком, и целовал уже натруженные, как у пролетарки, с набрякшими узлами вен, любимые руки.
…Царица сидела с ногами на кровати, прикрыв ступни этим позорным, драненьким одеялишком, и читала письмо из Тобольска. По мере чтения тонкие, изогнутые ее брови сдвигались к переносице. Царь лежал рядом, вытянув ноги, в исподнем, поверх одеяла.
– Ты не мерзнешь, Sunny?
Александра ласково ущипнула мужа за кончик носа.
– Нет. От кого письмо?
– От Лизы Эрсберг.
– О чем пишет?
– О наших лекарствах.
Глаза царя сверкнули, словно две блесны под толщей быстрой холодной воды.
Лекарства, этим словом они смешно, по-детски обозначили их фамильные сокровища.
Так и называли драгоценности – и в письмах, и в разговоре; во всех красных домах стены имеют огромные красные уши.
– И что?
– Просит, чтобы мы оставили все флаконы и пилюли в Тобольске. Пишет, что… в дороге лечебные свойства могут выветриться, ибо не все пузырьки… плотно заткнуты пробками… И вот еще… – Прочитала, слегка запинаясь. – «Наследнику Цесаревичу в любой момент могут понадобиться снадобья и притирания, а также компрессы и чистый спирт. И, если поднимется жар, без пилюль мы не обойдемся. Настоятельно прошу Вас, Ваше Величество, подумать и не лишать нас Своим Августейшим приказом столь необходимых для Наследника и Великих Княжон лекарств». А? Как тебе?
Царь вытянул по одеялу ноги, закинул за голову руки и сладко, долго потянулся.
– Ники! Как можно быть таким безмятежным!
– Мятежными пусть будут мятежники. Дай письмо.
Царь взял листок и бегал по нему глазами.
– Ну и почерк. Или это я стал слабо видеть?
– Лиза всегда так пишет.
– Ну давай подумаем. Может, и правда оставить?
У царицы руки крупно колыхались. Она выдернула бумагу из рук царя.
– Лиза очень просит. Умоляет. Они все просят. Они говорят – здесь, на Урале, очень страшно. Лекарства могут разбить… испортить. Вылить из флаконов и налить, представь, яду! Лиза пишет: там у вас обыски…
Тыкала в хрустящий в руках царя листок узким властным пальцем.
– Я все равно прикажу ей! Все равно!
Отбросила одеяло. Гневно вскочила с постели.
– А ты лежишь!
Царь смеялся.
– Душка, ты такой мне нравишься. Нравилась всегда. Ты такая хорошенькая, когда сердишься.
Дряблый подбородок царицы чуть колыхнулся. Она отвернула голову, и царь видел, как ее маленькое ухо обкручивает, обвивает кольцом седая прядь.
– Делай что хочешь! С лекарствами – это твое решение. Я полагаюсь на тебя.
Царица неожиданно быстро встала перед кроватью на колени и покрыла мелкими, детскими поцелуями голову и грудь царя.
– Спасибо, спасибо тебе! Но я, нет, не буду решать, не я. Мы – оба! Как ты скомандуешь, так и будет!
Царь, продолжая улыбаться, махнул рукой:
– Выполнять приказ!