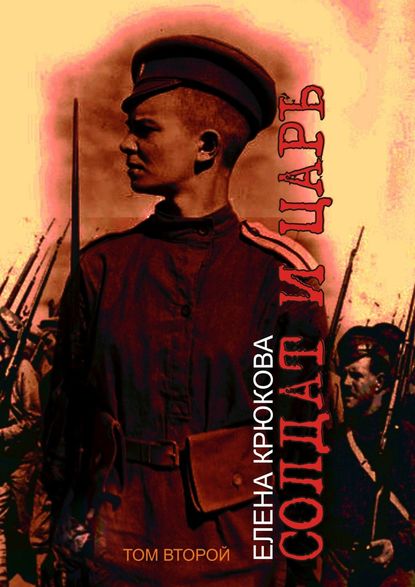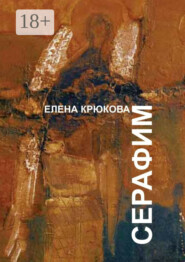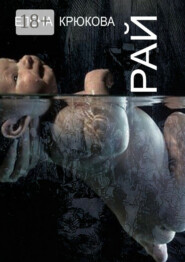По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Каин и Авель, Ники! Каин и Авель!
– Да что мне Библия, – оторвал лицо от ее живота. Опять глядел снизу вверх, жалобным щенком, найденышем. – Я ее – наизусть знаю! Но ведь этот народ, этот!.. мне был дан Богом. И Бог венчал меня на царство – над моим народом, этим, вот этим… – Указал на дверь. – А что, если… я – сам попустил этот ужас? Если я – преступник? Аликс, я, я – преступник! Это мое преступление!
Опять спрятал лицо в складках ее юбки. Плечи ходили ходуном.
Жена нежно, судорожно все гладила, и гладила, и гладила его голову.
Не знала, что сказать. Ей казалось – он оглох и теперь никогда не услышит ее.
– Не кори себя. Ты ни в чем не виноват. Слышишь! Ни в чем!
Ее слова бились об него, как крупные градины – о глухую черную землю.
– Я стоял у родовой постели этого ужаса! Этой революции! Я глядел, как она рождается! Более того! Я стоял у постели ее… зачатия… и я все, все видел… и я – не остановил…
– Как бы ты остановил? – Голос Александры отвердел. – Отправил бы беременную Россию к доктору Боткину? На abrasio?
– Абразио… Абразио… К черту все…
– Ники! Молись!
Быстро прижала ладонь к его губам. Ладонь горячая и сухая. Будто бы у нее вечно температура.
Целовал ее ладони, бессчетно, виновато, благодарно.
– Прости. Прости! Я сам не свой. Я гибну. Задыхаюсь.
– Скоро приедут девочки. И ты задышишь.
– Солнце! Как мне искупить свой грех?!
Встал со стула. Аликс попятилась. Царь упал перед ней на колени. Стал истово, размашисто креститься – как пьяный мужик там, в Дивеево, когда они обретали мощи преподобного Серафима. Мужик, наливший зенки до краю, бухался о плиты храма лбом, раскидывал руки и все орал: «Господи! Всех взял! Господи! Варварушку! Митюшку! Еремушку! Возлюбленную Василису! Всех! Серафимушка! Верни! Верни! Верни, все отдам!» Мужика оттаскивали за плечи, за ноги от аналоя, от грозного священника в парчовой ризе, а он все бил руками и ногами и все орал: «Верни! Верни!»
Крестился и рыдал. В голос, не стесняясь. Поднимал к ней, как к образу, искаженное лицо. Она ужаснулась: так он стал на себя не похож. А вот на того пьяного, слепого от отчаяния, бородатого, лысого мужика – похож. Он все крестился и крестился, быстро, будто сейчас умрет и перекреститься опоздает, задыхаясь, торопясь, словно опаздывая куда-то туда, где решается всеобщая, страшная судьба.
– Господи! Чем искуплю мой грех?! Что мне сделать для Тебя, Господи?! Как угадаю Твою волю? Да будет воля Твоя, а не моя, Господи! Все возьми… всех возьми… всех нас возьми, я готов!.. но верни – Россию… Россию!
– Ники… я прошу тебя…
Она тоже упала на колени рядом с ним и беспомощно хватала его горячими руками, похожими на двух тяжелых и толстых старых змей, то за голову, за виски и уши, то за шею, то гладила по мятой пропотевшей гимнастерке, то расстегивала пуговицу ворота, чтобы ему было вольготней дышать, то обнимала, обматывала вокруг него свои длинные, сильные, когда-то красивые и тонкие, а теперь толстые, с висячей, выше локтей, дряблой кожей, руки и прижимала к себе, к своей груди так сильно, что из нее разом вылетал весь воздух, и ей казалось – она упала в реку и тонет, – и она бормотала, шептала ему в ухо, и его седая спутанная прядь щекотала ей губы:
– Помоги нам искупить вину, если она есть на нас!.. Помоги нам угадать Твою волю!.. Господи, любимый, золотой, не дай нам сгинуть вместе с Россией… пусть мы погибнем, а она будет жить… будет, будет!.. Господи, если суждено страдать – будем страдать! Господи… не покинь…
Они оба плыли в широкой и бурной, холодной реке, и оба хватались друг за друга, и оба были друг для друга широкими, пробковыми, крашенными красной и белой краской – половина белая, половина красная, – отчаянными спасательными кругами.
* * *
…Медленно тянулись дни. В темпе Adagio. Или даже Largo. Или даже еще медленнее – Grave. Царь сидел за столом и медленно, трудно писал дневник. Две-три фразы – а сгибался над ними целый час. И ведь такие простые слова. Он не любил много слов. Он ведь военный: шагом марш! И маршируют солдаты, а полковник стоит и глядит на них. На тех, кто России служит.
А сейчас солдаты – кому служат? Красным владыкам?
Он раздумывал, и жизнь становилась медленным, тоскливым размышлением. А мысли вдруг превращались в медленных змей. Подползали к ногам, взбирались на колени, ползли по груди, обвивали шею. Душили. Он рвал их с шеи слабыми руками. Руки и вправду ослабели – здесь, в Ипатьевском доме, не было ни турника, ни гантелей; мышцы одрябли, и единственное, чем он спасал тело, это английская гимнастика по утрам. Вставал с постели, если была в Доме вода, принимал холодную ванну, крепко растирался – ложился на пол – и начинал отжиманья. От двадцати доходил до ста. Поднимался с пола весь мокрый и красный, как после бани. Аликс стаскивала с него исподнее и обтирала его сухим полотенцем.
«Аликс, я агнец», – однажды сказал он ей. Хотел смешливо, а вышло серьезно. «А я тогда овечка?» – тоже серьезно спросила жена. «Не бойся, нас не зарежут и не сварят. А что, если Лупоглазый прав, и мы действительно заговорщики? Я же написал Элле, что мы ждем любых хороших новостей из Петрограда. Любых! Это слово можно истолковать по-разному». Аликс напяливала на него свежую сорочку, целовала в затылок. «Я была бы только рада, если бы нас освободили. Я верю, есть офицеры… может, они ходят рядом… Но как представлю Мурманск, и английские корабли, и льды Баренцева моря, и…» – «Что?» – «Я не хочу уезжать из России. Не могу. Все главное происходит здесь».
Набросив полотенце ему на шею, она садилась в спальне в кресло-качалку. Очень любила она это кресло; мерно и тихо качаясь, она впадала в странное и блаженное равнодушие. Ей, в кресле-качалке, было все равно. Она скользила зрачками по замазанным известью окнам и все считала их – раз, два, три, четыре окна. Четыре стороны света. Четыре времени года. Четыре стороны креста. А православный крест восьмиконечный. Почему восемь? Перевернутая восьмерка – бесконечность. Восемь – это, наверное, семь таинств, и восьмое, самое главное – Воскресение.
Четыре окна, белая мгла. Серый, мутный туман. Светлый мрак. Живая смерть. Смерть при жизни. Она такая спокойная, мутная, белесая. Она – малярная кисть, обмакнутая в ведро с известкой. Кресло, качайся, я еще раз толкну тебя ногами. Под ногами – деревянные салазочки, кресло качается, а ноги на салазочках стоят; очень удобно. Не затекают. Браво тому, кто придумал качалку. Чувствуешь себя в колыбели. Она забыла себя ребенком. Какой она была ребенок? Бойкий? Угрюмый? Послушный? Строптивый? Не помнит. Качалка, туман, и грезы. Она мечтает. Сегодня – опять мечтает. О чем? Голова обвязана мокрым платком. Голова опять болит, но это теперь все равно. Она будет болеть всегда. Надо полюбить свое страдание, тогда оно перестанет быть страданием.
Раз, два, три, четыре окна. Четыре сестры, ее дочки. И пятый – ее мальчик. Он болен гемофилией, она подарила ему его смерть. Все врачи, и Боткин тоже, говорят, что мальчик не доживет и до шестнадцати. Мигрень, она прокалывает насквозь виски. Болит поясница, стреляет в коленные чашечки, и черный осьминог из глубины всплывает и поднимается к голове, и плотно обхватывает ее щупальцами, и присасывается, и тянет из нее жизнь. Качалка качается, и она вместе с ней, и она уже не боится сидящего на голове осьминога. А он вовсе не черный, а красный. Он насосался ее крови. Сколько крови она промакивала стерильной ватой, когда ухаживала за ранеными! Сколько крови – в операционной – подтирала мокрой тряпкой! А потом опять тщательно мыла, терла руки под мраморным больничным рукомойником и вставала к операционному столу. И снова текла эта кровь. Река крови. Она властно приучила себя не терять чувства при виде крови. Сердито говорила себе: это просто кровь, и в тебе она течет – точно такая же!
Качаясь, она берет в руки книгу. Житие преподобного святого нашего Серафима Саровского. Он все сказал ей, Серафимушка. Все предсказал. Так что волноваться? Назначенное да сбудется. Качайся и читай вслух, у тебя это хорошо получается. Ты даже писать умеешь по-церковнославянски; и, хоть тебе это трудно, невозможно, но ты делаешь это. Ты всегда любила делать невозможное; делать то, что выше твоих сил. А теперь силы растаяли. Они исчезли в белом тумане.
Белый туман. Вот и кончилась святая книга. А теперь что мы будем делать, мигрень? Мигрень, мы будем вышивать. А вот и пяльцы. Она на Пасху начала новое рукоделие. Синяя птица, и в хвосте – золотые глаза, и на голове корона из перьев; это павлин, он сидит, вцепился в ветку, а на ветке расцветает большая алая роза. Вышивает гладью, и плотно, густо ложатся стежки. Нить превращается в царскую птицу. Нет, ну его, вышиванье! Глаза утомляются и болят. Мигрень, давай-ка лучше порисуем! Не вставая с качалки, взять с тумбочки маленький рисунок. Он не закончен. На нем – голова ее сына.
Их сторожат. Но все равно не устерегут. Она грезит о побеге. Ей чудятся кони, храпящие у крыльца; и возок; и офицеры в плащах. Охрана выбегает и палит им вслед, да поздно – кони скачут во весь опор. Они думают, они такие простые! Наивные! О нет, они очень умные, мудрые. Они все тщательно продумают. Никто и ничего и никогда не узнает. Соберутся, сложат вещи. Перекрестятся, когда услышат свист за окном.
Они говорят, она слышала: царь на царя не похож, вроде как наш, мужик, солдат бородатый, даром что полковник. И рожа такая простецкая. И бороду не подстригает, торчит она лохмами. А про нее так шепчут: злая, жестокая! Не злая и не жестокая, а строгая. Дисциплины нет. Все развалили. И армию тоже. Разве это солдаты? Это же не солдаты. Это слюнтяи. Курят, пьют, сквернословят. Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?
Качалась. Напевала. Прижимала руку ко лбу и стонала от боли.
Наша слава… русская держава… вот где наша… слава…
Друг, Григорий, приди, спаси, защити. Покачай меня в колыбели. Утешь сына моего. Избави от боли, страданий, печали и воздыханий, но даруй жизнь бесконечную. Это моя молитва? Я сама сочинила? Нет, это вечная молитва. Так все русские люди молятся. И я русская. Я всегда была русской. Я русская, и я люблю Россию, и вот она горит, горит ее север, горит юг, пылает запад, в огне восток, а я все равно люблю ее. Все равно.
* * *
– Родная, знаешь, мне кажется, времени нет.
– Как нет?
– Ну вот так. И часто кажется – нет и пространства.
– Милый, а где же тогда живем все мы? И почему – живем?
Николай отодвинул тетрадь. Промокать написанное не стал: чернила сами сохли.
– Ты заметила, что мы живем только сейчас? Сию минуту?
– Да… это так. Но у нас есть прошлое!
– Аликс, прошлого для нас нет. Ты можешь его потрогать? Пощупать, вдохнуть?
Царица стояла за спиной мужа и нежно перебирала его волосы на затылке.
Кровь отлила от ее лица. Она это поняла по кружению головы. Хорошо, что на столе нет зеркала и он не видит ее бледности.
Она вспомнила, как жгла в камине свое прошлое.