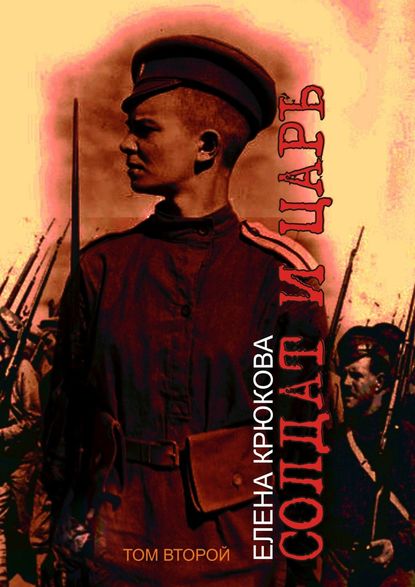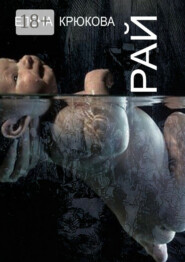По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Солдат и Царь. том второй
Елена Крюкова
Трагедия Первой мировой войны. Трагедия русской революции 1917 года. Трагедия расстрела последней русской царской семьи. Эти три трагедии будут приковывать к себе внимание. Книга Елены Крюковой – о красноармейцах, стороживших семью Романовых в Тобольске и в Екатеринбурге. Молодой боец Красной Армии Михаил Лямин – и царь Николай Второй. Царское семейство, уже обреченное – и народ, что несет у его комнат последний караул.
Солдат и Царь
том второй
Елена Крюкова
© Елена Крюкова, 2016
© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016
Редактор Галина Шарова
Корректор Майя Федотова
ISBN 978-5-4474-7005-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Книга вторая
Глава шестая
«26 (13) февраля, ночь
Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством. Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – тэноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается. Везде он.
Господи, Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.
Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана».
Александр Блок. Дневники 1918 года
Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.
Царица, в ночной сорочке, расчесывала волосы и все пытала царя: знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.
И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытает в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!
Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика – кривоногий табурет. Вместо ковров – грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть по стенам дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.
Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папа.
Какой негодяй, шептала царица и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту – так она делала всегда, когда слишком волновалась. А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому, что хочет нам всем – за брата – отомстить?
О, нет, наверное нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот – страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, вот из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он – страшный больной. Он болен. Он, милая, тяжко болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот… мы до него и дожили…
Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!
И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила эти тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле – их люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает всем руки, он развязывает совесть, он… думает так, и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами – все можно, все в вашей власти, нет страха, все – ваше, Бога – нет! И, милая моя, толпа… толпа слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет – всего… всего того, чего у нее нет… и не было… Солдаты говорят: у него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза – без дна. Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это каракули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. там… там все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли – не то чтобы надел, а – вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины… ты не поверишь… но не затыкай уши… поделены между всеми мужчинами… нет жен и мужей… а женщины – всеобщие жены, они принадлежат всем…
Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь милый! милый! он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!
Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.
Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладоши к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами. Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе… может, воды принесу? Да. Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И – дождалась! Ей – Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, – а я, дурак, не знал… не понимал, не сознавал… и теперь… только теперь…
По спокойному, странно светлому, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинуты за голову. Ворот исподней рубашки отогнулся. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и покрыла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.
* * *
Они все вооружены. Все до единого с оружием.
Хорошо Авдеев их вооружил.
Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет.
А ведь полезут, вот ей-богу, святой истинный крест… тьфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, – честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином не обмолвились о своем спасении?
«Их спасение – наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».
Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пучил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.
«Вот заладили: бога нет, бога нет. А ну как он есть?»
На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие дружки. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога – веруй в революцию. Отняли царя – верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой – обведет. Стрелки нарисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах, и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики – чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!
«Мы наш, мы новый мир… построим…»
– Эхэй, Микаил! Запарка, тшай, эст?
Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зееман.
– Фриц, спать тянет, да?
– Та, та! Йа! Тафай запарка!
Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухне, сама бумагу уголочками завернула.
Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.
– Держи.
– О, данке, данке, топарисч!
Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богатеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы – мы».
Елена Крюкова
Трагедия Первой мировой войны. Трагедия русской революции 1917 года. Трагедия расстрела последней русской царской семьи. Эти три трагедии будут приковывать к себе внимание. Книга Елены Крюковой – о красноармейцах, стороживших семью Романовых в Тобольске и в Екатеринбурге. Молодой боец Красной Армии Михаил Лямин – и царь Николай Второй. Царское семейство, уже обреченное – и народ, что несет у его комнат последний караул.
Солдат и Царь
том второй
Елена Крюкова
© Елена Крюкова, 2016
© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016
Редактор Галина Шарова
Корректор Майя Федотова
ISBN 978-5-4474-7005-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Книга вторая
Глава шестая
«26 (13) февраля, ночь
Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством. Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – тэноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается. Везде он.
Господи, Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.
Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана».
Александр Блок. Дневники 1918 года
Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.
Царица, в ночной сорочке, расчесывала волосы и все пытала царя: знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.
И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытает в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!
Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика – кривоногий табурет. Вместо ковров – грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть по стенам дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.
Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папа.
Какой негодяй, шептала царица и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту – так она делала всегда, когда слишком волновалась. А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому, что хочет нам всем – за брата – отомстить?
О, нет, наверное нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот – страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, вот из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он – страшный больной. Он болен. Он, милая, тяжко болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот… мы до него и дожили…
Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!
И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила эти тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле – их люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает всем руки, он развязывает совесть, он… думает так, и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами – все можно, все в вашей власти, нет страха, все – ваше, Бога – нет! И, милая моя, толпа… толпа слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет – всего… всего того, чего у нее нет… и не было… Солдаты говорят: у него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза – без дна. Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это каракули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. там… там все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли – не то чтобы надел, а – вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины… ты не поверишь… но не затыкай уши… поделены между всеми мужчинами… нет жен и мужей… а женщины – всеобщие жены, они принадлежат всем…
Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь милый! милый! он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!
Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.
Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладоши к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами. Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе… может, воды принесу? Да. Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И – дождалась! Ей – Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, – а я, дурак, не знал… не понимал, не сознавал… и теперь… только теперь…
По спокойному, странно светлому, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинуты за голову. Ворот исподней рубашки отогнулся. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и покрыла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.
* * *
Они все вооружены. Все до единого с оружием.
Хорошо Авдеев их вооружил.
Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет.
А ведь полезут, вот ей-богу, святой истинный крест… тьфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, – честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином не обмолвились о своем спасении?
«Их спасение – наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».
Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пучил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.
«Вот заладили: бога нет, бога нет. А ну как он есть?»
На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие дружки. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога – веруй в революцию. Отняли царя – верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой – обведет. Стрелки нарисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах, и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики – чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!
«Мы наш, мы новый мир… построим…»
– Эхэй, Микаил! Запарка, тшай, эст?
Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зееман.
– Фриц, спать тянет, да?
– Та, та! Йа! Тафай запарка!
Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухне, сама бумагу уголочками завернула.
Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.
– Держи.
– О, данке, данке, топарисч!
Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богатеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы – мы».