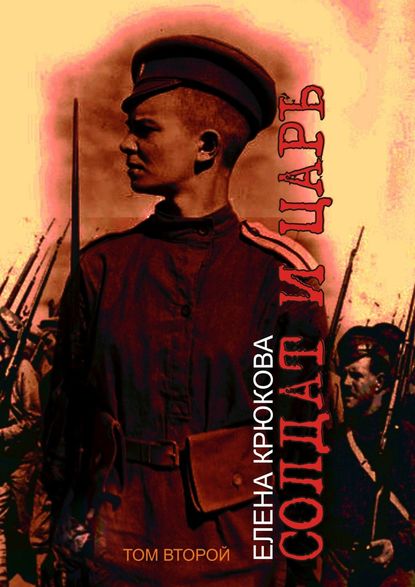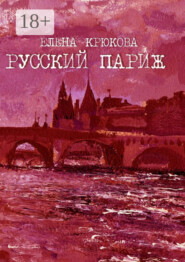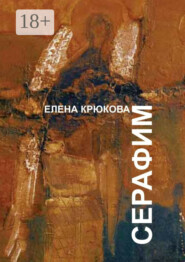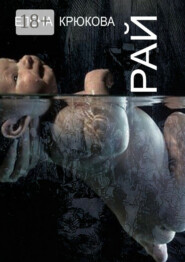По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Таточка…
– Что?.. тише…
– А мама мне говорила: нельзя причинять боль никакому живому существу…
– Все верно говорила… шей…
– Она говорила: каждый цветок, каждый лепесток чувствует боль… и ужас… и даже камень – чувствует… А наши камни – чувствуют?.. вот они сейчас боятся, когда мы их куда-то в темноту зашиваем… какими-то нитками… они тоже живые?..
– Шей, Стася… все – живое…
– А животные?..
– Что – животные?..
– Мы же их убиваем… а потом едим… им тоже больно…
– Всем больно…
– Оличка, я знаю, что всем… а что, если вообще не жрать мяса?..
– Настя, не жрать, а есть… Настя, мы же не едим мяса в пост…
– Пост – проходит… и потом опять мясо…
– Лиза! Подай мне вон то ожерелье.
– Длинное, жемчужное?..
– Да… в нем мама была… на коронации…
– Господи, какое красивое… я будто век не видала все наши драгоценности…
– Ну вот смотри и запоминай…
– Да я и так все помню…
– Мама сказала: кто из вас первой будет выходить замуж – той и подарю жемчуга…
– Ой, тогда я – первой выйду!..
– Настинька, сначала жениха заведи…
– Саша! Знаешь что… встань… и пересядь на кровать, к нам… а сама ножку стула – в ручку двери воткни… так надежнее…
Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.
– Нас всех здесь много… я кровать продавлю…
– Не бойся, ты худенькая. Не продавишь…
Рубины. Вот этот – из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории. Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали – она в могиле. Жемчуга, розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, это папа привез из Японии, какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно, и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Индия? А может, Африка? Драгоценности – это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.
И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир – алмазы и рубины, кровь и слезы, крики задыхающихся от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с бруствера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: больно! больно! спасите! – жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзы госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца – сквозь решетки, прутья ребер – горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву, – драгоценности, вот они – свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: за мной! я дам вам счастье! а всех, кто не с нами, мы убьем! – и лысая его голова сверкает гладко обточенным кабошоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекатывается огонь красной крови, ее несгораемый, неопалимый сгусток, – умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это Пасхальное золото, и это кровью красят яйца, это не яйца искусника Фаберже – это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голой ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла, – это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии, – так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми, – а сокровища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля, лопатой гребли из отхожего места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, – а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого, и над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а Кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?.. воскресе из мертвых, смертию смерть поправ… и сущим во гробех… живот даровав…
Да это не человек! Это свеча! Это… драгоценность…
– Таточка, у тебя нитка порвалась… и запуталась… давай я вставлю.
– Спасибо, душка, я сама.
– Тебе плохо видно. Свеча догорает.
– Свеча?.. да, и правда…
– Правда?..
– Все, все правда…
– И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?
– Да.
– А я думала, мне все это снится…
Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.
Под столом перевернулся и во сне взлаял их любимый спаниель.
– А рубин похож на кровь, Тата.
– Настя, что ты болтаешь.
– Девочки… девочки… умоляю, тише…
* * *
…Татьяна грела руки под мышками. Анастасия насмешливо бросила:
– Хочешь, выну тебе из баула зимнюю муфточку?
– Отстань! – сначала бросила в ответ Татьяна, а потом миролюбиво добавила:
– Не сердись, я нарочно. Спасибо. Не надо.
С парохода на железнодорожный вокзал их опять везли в этих кургузых сибирских возках. Они маленькие, верх хиленький, из тонкой ткани, напоминают не телегу, а пролетку, и трясутся, Боже мой, так трясутся на мостовой! А на дороге в распутицу – так просто валятся на бок. Сколько раз эти клятые возки переворачивались в пути! И ржали лошади, и красноармейцы выгоняли сестер на снег, и дядька Нагорный ласково брал на руки братика – а ну как зашибется, от матери нагоняй, лечоба бесконечная, и слез не оберешься.
– Таточка, ты держись за меня и не упадешь.