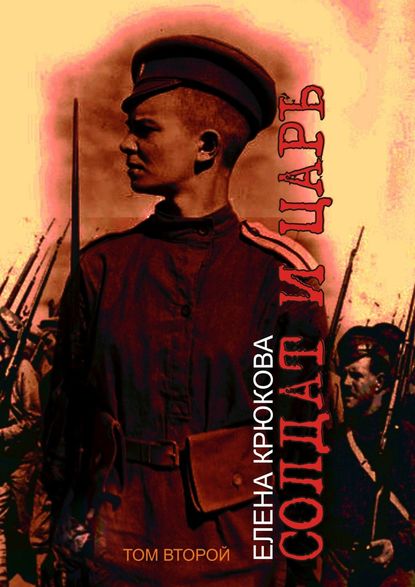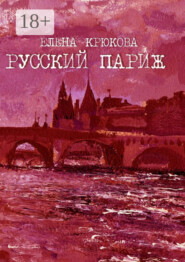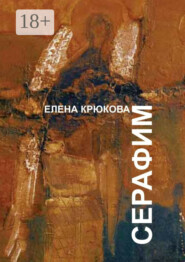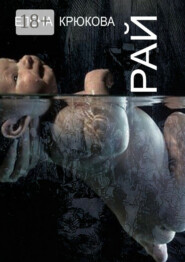По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За революцию так все привыкли к пулям и трупам. «Пуля», «труп», «смерть» – обыкновенные слова, не лучше и не хуже других. В мирное время опасались болтать о смерти всуе; она была тайной за семью замками, свечами панихиды, ночной Псалтырью. А теперь? Убили того, другого. Тюкнули. Шлепнули. Кокнули. Отправили в расход.
Менялся словарь, и менялся так быстро, что уследить за пытками языка было невозможно.
Убивали один язык, нарождался другой.
Но, пока царила смерть, не рождалось ничто.
Ночь, и поезд брякнул барабанами колес и встал. И более не шевелился, не вздрагивал.
Поезд – убили.
– Поезд убили, – во сне пробормотала Анастасия и перевернулась на другой бок.
Ее Ольга расталкивала за плечо:
– Настя, проснись. Стасинька, проснись! Анастази!
Стонала, во сне же отбрыкивалась.
– Спать… спать хочу…
– Стася, приехали.
Все поднимались с полок, заспанные, суровые, кто с обиженным лицом, кто с ясным, смиренным взглядом. Нагорный одевал цесаревича. Алексей, сонно глядя, как дядька продевает ему руку в рукав, говорил:
– Не надо, к чему эти заботы, я сам.
Татьяна уталкивала дорожные мелочи в баул. Нагорный метнулся:
– Позвольте, я застегну замок. Я сильный.
Цесаревич еще спящими, вялыми пальцами застегивал пуговицы на сером длинном френче.
– Где моя фуражка?
Он носил военную фуражку. Он хотел стать военным, как отец. А потом менял решение: «Я буду строить корабли! Морские, океанские, большие!»
Ночь, и запасной путь.
– Где мы?
– На запасных путях, как будто. Вокзала не видно.
– А может, с другой стороны!
– А сколько сейчас времени, господа?
– Сейчас гляну. Брегет… где брегет…
– Потерялся?
– О нет. Вот. Ого-го! Два часа пополуночи.
– Два часа, это уже сегодня, девятое мая…
– Святитель Николай. Никола Вешний. Помолимся.
Девушки и Алексей перекрестились, а Анастасия начала читать неожиданно ясным, звенящим голосом, на весь вагон:
– Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих… Радуйся, Николае, великий чудотворче! Радуйся, Николае…
За окном дождь. Он идет и идет. Моросит, безысходно и бесконечно. Зачем он возник? Заморосил? Он укрывает тонкой пленкой слез весь этот непонятный Урал, и пути, и селедочные узкие рельсы, и пропитанные мазутом, как черным маслом, шпалы, вымачивает деревья и крыши в этом беспредельном небесном рассоле, поливает землю, а земля все впитывает, она все поглотит, и дожди и снега и трупы, и даже времена, и кружева и красные звезды, эти страшные пентаграммы, ей, молчащей на полмира, черной, грозной, бесповоротной, всегда ждущей, никогда не сытой, ей все равно.
– Настя… Тебе удалось уснуть?
Ольга нашла ее руку. Какая тоненькая рука. В запястье не дай Бог переломится, как ножка богемского хрустального бокала.
– Да. Немного. Мне снился сон.
– Почему ты прячешь лицо? Ты плачешь?
Ольга подняла ее опухшее лицо за подбородок, вынула из кармана кружевной швейцарский платок и крепко, царапая жестким кружевом ей щеки, вытерла ей слезы.
– Это ничего. Пройдет.
– Все пройдет, пройдет и это.
– Это царь Соломон? Надпись на кольце?
– Это кольцо раньше носил царь Давид. Его отец.
– Оля, я хочу перечитать Псалтырь.
– Всю?
– Ну не всю сразу, конечно. Хочу пятидесятый псалом… тридцать второй… восемьдесят пятый… и еще девяностый.
– «Живый в помощи Вышняго»? Ты разве наизусть не помнишь?
– Боюсь запнуться.
– Ну, слушай.
Ольга шепотом читала Девяностый псалом. Клим дышал на стекло, крепко протирал его рукавом. Алексей тихо смеялся:
– Клим, дождик-то снаружи.
Фонари на далеком, невидимом перроне разливали неясный свет над рельсами и крышами вагонов. В их вагоне бойцы растопили котел и, кажется, грели кипяток. Пахло дешевым чаем, дух как от заваренного веника.