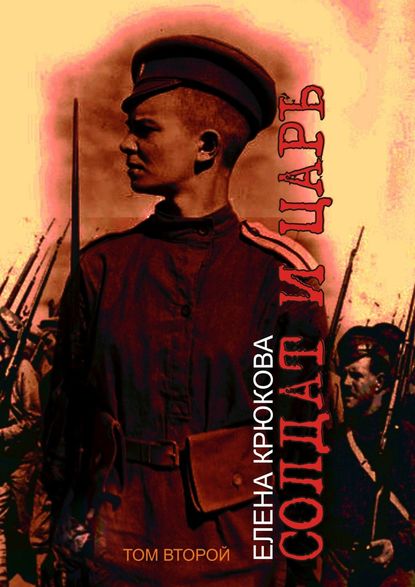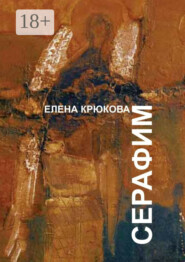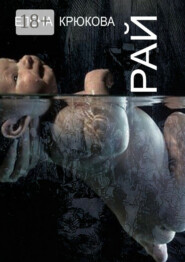По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ермаков указал Ольге и Анастасии на вторую пролетку. За этими экипажами стояли еще три.
В первой пролетке восседал под дождем комиссар Белобородов, начальник всего Урала, весь Урал под ним, под красным царем.
А комиссар Ермаков глянул на Белобородова так, будто бы это он, Ермаков, тут один царь. И других тут быть не должно.
– Что возитесь?! – во весь голос крикнул Белобородов. – Я весь вымок! Хоть выжимай!
– Трогай! – крикнул Ермаков кучеру так, будто орал: «Убирайся!»
Лощадь заржала и рванула. Пролетка с наследником и Татьяной тронулась.
Ольга прыгнула в пролетку первой и подала руку Анастасии. Джой весело тявкнул. Джимми отозвался.
– Настинька, давай, ты же ловкая…
Анастасия, придерживая на груди повязку с Джимми, взобралась и отдула со щеки прядь, выбившуюся из-под шапки.
– О да. Я такая ловкая.
– Собачницы хреновы! Мало им вещей, псов за собой тянут!
Ермаков махнул рукой, будто в бою, в кровавой каше рубил чью-то зазевавшуюся голову; тронулась пролетка с сестрами. Лошади шли одна за другой, ветер дул в лицо, и Татьяна одной рукой обняла Алексея за плечи.
– Алешинька, скоро увидим мама и папа. И Машиньку.
– Я по Машке соскучился. Очень.
– И я тоже.
Мокрые хвосты лошадей и мокрые их спины растаяли в серой измороси.
– Выводи! – крикнул Ермаков охране вагона четвертого класса.
И вывели их всех – царских слуг, верную свиту, верных, жалких, беспомощных, с бегающими глазами: куда это нас привезли?.. Боже, какой дождь и туман!.. – всех их: фрейлин и поваров, лакеев и гувернеров, графинь и статс-дам, солдат и генералов – и вся вина их в том, что они царские, бывшие, бросовые, дешево и сердито позолоченные; а позолоту стряхнуть, а взять на прицел, да только не здесь, хотя перрон весьма удобен для расстрела, – надо обождать, сделать все по закону, а закона-то нет, каждый сейчас сам себе царь, и кто над ними тут царь? – да он, Ермаков, – а они, отребье, огрызки, вон идут, ноги волокут по размытой дождями земле, оступятся да в грязь упадут, а туда им и дорога, ибо грязь они, грязь и плесень мира, и как можно скорее надо с этой плесенью расправиться, чтобы легкие свободно развернулись и сердце пламенно забилось под красной, свободной звездой.
Комиссар Родионов глядел еще человеческим лицом, а комиссар Ермаков – бесьим.
– Бес, – сказала графиня Гендрикова и тайком, мелко, перекрестила грудь.
Солдат Волков сказал:
– Госпожа Гендрикова, я вот из вагона… варенье захватил…
И протянул банку с запекшейся черно-красной, ягодной кровью.
– Это – вам…
Графиня не успела вымолвить «вот спасибо». Скорым шагом подошел Ермаков.
– Что это у вас?! Нельзя! Запрещено!
Вырвал банку из рук Волкова. Сунул в руки подбежавшего охранника.
– Жрите, к чаю. Все из вагона вышли?! Пересчитать еще раз! По головам!
И их, как скот, считали по головам.
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть… семь, восемь, девять… Рассаживай!
Впереди трясся в пролетке Белобородов. Конвойные, на конях, скакали по обе стороны кортежа.
– Нас как в гробах везут, хоть мы и живые, – няня Теглева обернула мокрое лицо к графине Гендриковой.
Графиня сжала руку няньки. Они обе глядели на чужой дымный город Екатеринбург. Дома, и трубы, и колонны, и крыльца, и мокрые деревья, и заплоты. Стекла блестят, как слезы. Вот встали около глухого высоченного забора. Дома за ним не видно. Здесь сойдем? Выйти Харитонову и Седневу! Остальным оставаться на местах! Вперед!
И ехали вперед. И приехали. Вышли все, щупая ногами мокрые, положенные на грязь доски. По дощатым тротуарам гуськом прошли в каменный дом. Над дверью – красная тряпка. Красный ситцевый передник грязной поварихи. Весь вымок. А, да, это их новый флаг. Это теперь флаг нашей России. Со святыми упокой. С чем, с чем?! Шептаться – отставить!
Комиссар Белобородов спрыгнул с пролетки на землю. Глядел на людей, как на вещи: эта стоящая, эта чуть подороже, а эта просто хлам. Зычно прокричал:
– Открывай ворота! Арестантов – принимай!
Ворота заскрипели. Их отворяли. Навстречу привезенным вышел приземистый, толстобрюхий человек, живот у него нависал над туго стянутым ремнем. Пряжка ремня горела в дождевой хмари медно-красным раскаленным углем. Толстобрюхий издал натужный вопль:
– За-а-апускай… арестованных!
– Где мы, Господи? – прошелестела баронесса Буксгевден. Рубиновая серьга у нее в ухе больно, жарко сверкнула. На серьгу взглядом василиска смотрел Белобородов.
А сзади него – глазами и шевелящимися пальцами, руками – уже раздевал женщину, уже пробовал на вкус безызвестный охранник со щеткой усов под висячим носом, с оспинными рябинами по всему широкому, как медный казан, лицу.
– Мы в тюрьме, – отозвался генерал-адъютант Татищев. – От сумы да от тюрьмы в России – не отрекайся.
Комиссар Белобородов радостно засмеялся.
– А я в тюрьме родился благодаря вашему чертову царизму.
Граф Татищев кусал губы.
– То есть как? Правда? Вы… родились в застенке? В… тюремной камере?
Белобородов продолжил смех, смех извергался из него мощно, искренне, длинно, ему не видно было конца, и Татищев терпеливо ждал – так пережидают заливистый лай собак на охоте, когда они дружно и бешено поднимают волка.
– Тюрьма – вся наша родная страна. Вся Россия была тюрьма! Непонятно?
Опять хохотал.
Смех его когда-нибудь кончился.
И в наступившей тишине, под дождем, во дворе екатеринбургской тюрьмы, около пролеток, что доставили их не к любимым царям, а в каменную пасть красного зверя, граф Татищев отчетливо, по-армейски, сказал, глядя в самую середину мокрой фуражки комиссара Белобородова, в черный мокрый козырек: