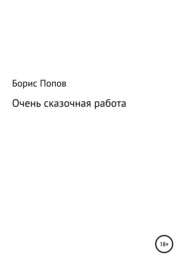По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Спасительная неожиданность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пожимая Хирону лопатообразную ладонь на прощанье, я сказал:
– В недобрый час нас судьба познакомила. Вас как перекати-поле по миру гоняет, мы по степи тоже не просто так путешествуем. Совершенно нет времени остановиться, спокойно поговорить. Ну да ладно, может быть повезет, еще раз когда-нибудь свидимся. А теперь прощай.
И мы поехали. Через какое-то время я обернулся. Хирон все так же глядел нам вслед и помахивал на прощанье здоровенной, похожей издали на флажок, ладонью.
Мы ехали, ехали, ехали. Я рассказал Богуславу о подселившемся ко мне Полярнике.
– Это он тебя возле Невзора завалил?
– Кто же еще!
– Ладно, хоть жив остался, и с ума не сошел. А выжить его, говоришь, только возле неведомых ворот в тридевятом царстве можно?
Я кивнул.
– Да, просто джинн, пожалуй, удобней в этих делах бы был.
– Выбор был невелик, – усмехнулся я, и стал рассказывать про порталы и телепортацию.
Вот тут Слава загорелся.
– Это ведь можно было бы и во Францию махом попасть! И назад!
– Да, это многое бы в нашей жизни изменило, – согласился я. -И на Русское море, и к сельджукам за день бы сгоняли. Повозились бы чуток подольше с дельфинами и пей вино прямо из бочки! Только бодливой корове бог рога не дает. Поэтому езжай да радуйся, что не в исподнем вдоль реки бежишь.
Ты молодец, что этакую песню спел, после которой нас не ограбили кентавры. Не знаешь, кто ее написал? Прямо охота ему руку пожать!
Богуслав сунул мне свою лапищу.
– На, жми за слова.
Я с удовольствием потискал его крепкую ладонь.
– Жми уж сразу и за музыку.
– Тоже ты?
– А кто же еще.
Пожал еще раз.
– Давно пишешь?
– С шестнадцати лет. По сильной влюбленности для Настеньки своей первый стих написал.
– Удачный?
– Да дрянь была несусветная, что-то про влюбленных и робких соловьев, но Настена меня за эту чушь в первый раз поцеловала.
– Прочти.
– Больше сорока лет уж прошло, ничего и не помню. Вот ощущение величайшей радости, самой яркой в моей переполненной событиями жизни, что пришло после того поцелуя, врезалось в память намертво – не позабудешь.
Время от времени брался опять писать. Напишу, прочту, и выкину. Не люблю дрянь делать и поделку этакую людям показывать.
Потом лишился я Настеньки, весь мир стал состоять из горя и боли. Лет десять ничего такого не мог и не хотел писать.
Время шло. Пока между войнами заняться было нечем, как-то взгрустнулось, сел опять стишки на бересте марать. Один раз гляжу – сносно получилось. И совсем не так, как бояны поют, не вычурно. Можно сказать, даже веселенько кое-что звучит. Вот с той поры, как минутка пустого досуга образуется, я и пишу.
– А как музыку стал придумывать? Поделись! Или чужое чего припоминаешь?
– Мне чужого не надо. Я как стишок дописал, бросаю это дело, и ухожу куда-нибудь. Некоторое время или брожу, или другие дела делаю, потом прихожу, начинаю вычитывать написанное и сразу править.
– А тут же после написания этого сделать нельзя?
– Никак нельзя. Сразу читаю, мне все всегда нравится, все хорошо, все выше всяческих похвал, ничего менять не надо.
А вот вглядываюсь через какое-то время и вижу: вот это словцо лишнее, не к месту оно тут, топорщится как-то и из-за него вся строка какой-то корявой делается – его надо убрать, это требуется заменить на похожее по смыслу, но звучащее иначе, и весь куплет засияет, эти слова надобно местами переставить, а то ни складу, ни ладу нету. Иной раз по три-четыре раза приглаживаю да подчищаю, правлю от души.
А пока с этим вожусь, в голове начинает звучать негромкая музыка. Заканчиваю правку, уже знаю на какую мелодию все это будет петься.
Голосишко у меня гадкий, и я этим, конечно, всю песню порчу, но деваться некуда, хотя бы раз спеть-то надо. Обычно я свои поделки дружинником послушать давал. Обычно они это на припевах подхватывали сначала хорошими голосами, а потом и хором. А уж потом, в походе или на гулянке какой, как рванет запевала эти переливы, прямо слушаешь и поражаешься – неужели я мог так замечательно написать.
– Как же бойцы относились к тому, что воевода, от слова и решения которого их жизни зависят, похабные да скабрезные песенки маракует?
– Кто это им об этом скажет? Будут их потом разные глупые мысли грызть-глодать. Иной раз приходится перетягивать какой-нибудь момент боя, подольше на каком-нибудь участке нужно повоевать, постоять насмерть, а им будет думаться: затих не вовремя воевода – вместо того, чтоб нам на помощь засадный полк двинуть иль отступить на нашем краю, стишата, поди, свои паскудные обдумывает, и дрогнут воины, и побегут не ко времени.
– А как же появление новых песен перед дружиной объяснял? Кто-то по пьянке в харчевне пел, а ты услыхал?
– В трактирах и корчмах, конечно, часто поют, но поют все больше известное, новые песнопения в редкость, и возьмись я из раза в раз новизну переть, заподозрят во лжи. Да и поход в харчевню для боярина в редкость – я был женат, повар в доме свой, мне харчиться положено дома. Ну, а уж в походе все из одного котла едим, надолго дружину не оставляю.
Поэтому выдумал себе пестуна моих юных дней, ныне почившего старика Ерофея, который сочинитель песен был, да еще в придачу и певун, живший много времени назад в нашей дальней усадьбе. Вот он-то, вроде, и оставил записи своих сочинений. Ну а уж музыка отложилась в цепкой детской памяти. С той поры в дружине стала ходить шуточка про всякие передряги: а что бы об этом старик Ерофей спел?
Ладно, давай по делу. В городишко Воин заезжать будем? Или стороной обойдем?
– Особых дел у нас там нету, давай мимо проедем, торопиться нужно.
На том и порешили.
Ехали быстро, тревожа сусликов и привлекая внимание степных орлов, величественно кружащих в небе. Через несколько дней пришлось отклониться от Славутича, чтобы спрямить дорогу к Крыму.
Но вопреки нашим прежним расчетам по совсем уж безводной степи идти пришлось всего два дня, вполне хватило запаса воды в бурдюках, не пришлось искать заброшенные колодцы и тратить на это драгоценное время. Фариду так и не пришлось блеснуть своей способностью к поиску. Он ехал и вздыхал, что даром ест хлеб, не осознавая того, что так отличился в бою с черным колдуном силой своей веры в Ахура Мазду, что за это его можно катать на лошадке и кормить до конца жизни. Ну а после въезда в Крым, который здесь звали Таврикой, трудностей с водой больше не было.
Но другая, более глобальная и неразрешимая трудность вставала перед лицом всего человечества – контакт с дельфинами, так вплоть до 21 века и не достигнутый.
Как-то вечером уже в сумерках наш лагерь посетил пожилой статный мужчина с большим витым посохом, на который он почему-то не опирался, а просто нес его в левой руке. Собаки при виде него не обеспокоились и голос не подали. Было ощущение, что кроме нас с Богуславом его никто и не видит – остальные не обращали на пришельца никакого внимания, занимались своими немудрящими делами перед сном.
Мы со Славой стояли и беседовали о чем-то отвлеченном. Вдруг побратим как-то весь подобрался и сказал: