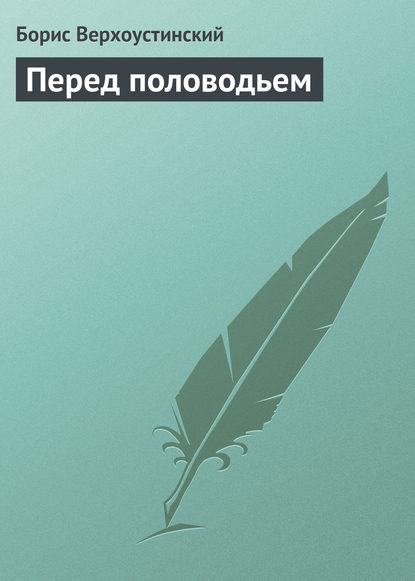По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перед половодьем
Год написания книги
1912
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мать грустно улыбается; «можно!» – а отец подходит вплотную к мальчику и свирепо шепчет:
– Убирайся вон, бесчувственное дерево. Б-болван!
Но мать этого не слышит и зовет:
– А сперва поди сюда, Витенька, я тебя поцелую.
Отец гордо выпрямляется, все его раздражение обрушивается на больную:
– Что за телячьи нежности, не понимаю!.. Смотреть тошно на вечное миндальничанье: «ах Витенька, ах миленький…»
Важно ступая, он уходит в темный кабинет; там облокачивается на письменный стол, всматриваясь в стоящий за окном мрак. Стенные часы в гостиной угрюмо отбивают: «тик-так!» – а кто-то, сидящий в сердце, как в темнице, тоже насмешливо повторяет: «тик-так!»
– …На-ка вот сдачу! – раздается за спиной голос.
– Оставь себе! – шепчет Синяя Борода, дерзко обхватывая сопротивляющуюся Василиду и яростно сжимая ее трясущимися от волнения руками.
– Пусти, закричу, ведь! Я – честная.
– А ну, попробуй! – подзадоривает ее Синяя Борода, страстно желая, чтобы она привела свою угрозу в исполнение.
– Да ну, крикни, крикни, голубушка; небось, не крикнуть… Ха-ха-ха!
Издевается:
– Ты, ведь, стерва, знаю я тебя, и урод ты. Вот женка моя, так красавица, действительно, н-да!.. но, по-видимому, издохнет скоро… А честных нет, это ты соврала.
Часом позже – в детской тихая беседа:
– Поплачь, нянечка, поплачь, милая.
– Да не хочу же, Господь с тобою. Хошь сказочку?
– Не надо! – отвечает мальчик и молчит, точно к чему-то прислушиваясь.
Потом опять:
– Да поплачь же, милая нянечка, поплачь. Ну, вот, какая!
Василидушка закрывает лицо ладонями.
– Ага!.. заплакала! – торжествует маленький человек.
– И вовсе не, – всхлипывает Василида: – не реву я… Было бы из-за кого… У-у у! Дьяволы, господа-нехристи.
Огонек в зеленой лампадке колеблется.
– Тамотка всех разберут, – шепчет Василида. Мальчик понимает, что говорится про высокое небо, и безмятежно засыпает.
Во сне он видит не то бабочек, не то нагих, ослепительно белых человечков, так и манящих к себе своею очаровательной белизной.
– Вот я вас! Вот я вас! – кричит он, гоняясь за ними с длинным сачком в руке и норовя накрыть самого красивого, самого белого. Неизвестно, кто они, эти белые бабочко-человеки, летящие неведомо откуда.
Мать стонет и кашляет, а отец ходит по освещенному свечами кабинету, заложив руки за спину и поскрипывая новыми штиблетами.
Круглые стенные часы во тьме гостиной безостановочно выбивают «тик-таки тик-так!» – словно стучат тонким железным молоточком в какие-то золотые ворота.
Давно с груди матери сполз на пол пузырь со льдом, но поднять его некому, а сама она – в тревожном забытье.
12
Но велика сила весенняя, исцеляющая. На второй неделе Великого поста, когда в конец зимнего оцепенения еще не верится, с зеленой крыши капает капель, звонкая, упорная, – продалбливает обледенелый снег.
А в светлую спаленку проник золотистый луч, как десница небесная, и заиграл с колеблющейся пылью.
Легко и радостно в сердце матери.
С кровати спускается, на босые ноги – туфли, вышитые бисером, а на плечи – голубой капот, и, осторожно придерживаясь за стены, направляется неуверенной походкой в кухню.
– Вот и я, Василидушка! – счастливо говорит она Василиде, растапливающей на корточках плиту сосновыми растопками, благоухающими смолой.
Василида пугается, роняя растопки на железную настилку, что перед плитою:
– Ой, батюшки, а мне и не слышно, и никчемушеньки!
– Да, – сияет мать, – поднялась, вам на зло… Умирать-то не хочется.
– Ну, вестимо! – соглашается Василида, отирая тряпкою с табурета пролитую воду и подставляя его хозяйке:
– Нако-сь, устала, чай, родная.
Мать присаживается. Бледна и счастлива и с бескровными руками меж колен.
– Чем похвастаешь?
Василида смущенно наклоняет голову.
– Да что… ведра поизносились. Беспременно надыть жестянику отдать, пущай донья смастерит.
– Отдадим, – улыбается мать, – отдадим, Василидушка. Рассказывай дальше, что нового.
Еще ниже наклоняет голову Василида и тяжело вздыхает, боясь взглянуть на допрашивающую:
– Ничего, родная, вот те крест.
И молит сквозь слезы:
– Голубонька моя, сладкая, ох, грех мой перед тобой лежит…
– Убирайся вон, бесчувственное дерево. Б-болван!
Но мать этого не слышит и зовет:
– А сперва поди сюда, Витенька, я тебя поцелую.
Отец гордо выпрямляется, все его раздражение обрушивается на больную:
– Что за телячьи нежности, не понимаю!.. Смотреть тошно на вечное миндальничанье: «ах Витенька, ах миленький…»
Важно ступая, он уходит в темный кабинет; там облокачивается на письменный стол, всматриваясь в стоящий за окном мрак. Стенные часы в гостиной угрюмо отбивают: «тик-так!» – а кто-то, сидящий в сердце, как в темнице, тоже насмешливо повторяет: «тик-так!»
– …На-ка вот сдачу! – раздается за спиной голос.
– Оставь себе! – шепчет Синяя Борода, дерзко обхватывая сопротивляющуюся Василиду и яростно сжимая ее трясущимися от волнения руками.
– Пусти, закричу, ведь! Я – честная.
– А ну, попробуй! – подзадоривает ее Синяя Борода, страстно желая, чтобы она привела свою угрозу в исполнение.
– Да ну, крикни, крикни, голубушка; небось, не крикнуть… Ха-ха-ха!
Издевается:
– Ты, ведь, стерва, знаю я тебя, и урод ты. Вот женка моя, так красавица, действительно, н-да!.. но, по-видимому, издохнет скоро… А честных нет, это ты соврала.
Часом позже – в детской тихая беседа:
– Поплачь, нянечка, поплачь, милая.
– Да не хочу же, Господь с тобою. Хошь сказочку?
– Не надо! – отвечает мальчик и молчит, точно к чему-то прислушиваясь.
Потом опять:
– Да поплачь же, милая нянечка, поплачь. Ну, вот, какая!
Василидушка закрывает лицо ладонями.
– Ага!.. заплакала! – торжествует маленький человек.
– И вовсе не, – всхлипывает Василида: – не реву я… Было бы из-за кого… У-у у! Дьяволы, господа-нехристи.
Огонек в зеленой лампадке колеблется.
– Тамотка всех разберут, – шепчет Василида. Мальчик понимает, что говорится про высокое небо, и безмятежно засыпает.
Во сне он видит не то бабочек, не то нагих, ослепительно белых человечков, так и манящих к себе своею очаровательной белизной.
– Вот я вас! Вот я вас! – кричит он, гоняясь за ними с длинным сачком в руке и норовя накрыть самого красивого, самого белого. Неизвестно, кто они, эти белые бабочко-человеки, летящие неведомо откуда.
Мать стонет и кашляет, а отец ходит по освещенному свечами кабинету, заложив руки за спину и поскрипывая новыми штиблетами.
Круглые стенные часы во тьме гостиной безостановочно выбивают «тик-таки тик-так!» – словно стучат тонким железным молоточком в какие-то золотые ворота.
Давно с груди матери сполз на пол пузырь со льдом, но поднять его некому, а сама она – в тревожном забытье.
12
Но велика сила весенняя, исцеляющая. На второй неделе Великого поста, когда в конец зимнего оцепенения еще не верится, с зеленой крыши капает капель, звонкая, упорная, – продалбливает обледенелый снег.
А в светлую спаленку проник золотистый луч, как десница небесная, и заиграл с колеблющейся пылью.
Легко и радостно в сердце матери.
С кровати спускается, на босые ноги – туфли, вышитые бисером, а на плечи – голубой капот, и, осторожно придерживаясь за стены, направляется неуверенной походкой в кухню.
– Вот и я, Василидушка! – счастливо говорит она Василиде, растапливающей на корточках плиту сосновыми растопками, благоухающими смолой.
Василида пугается, роняя растопки на железную настилку, что перед плитою:
– Ой, батюшки, а мне и не слышно, и никчемушеньки!
– Да, – сияет мать, – поднялась, вам на зло… Умирать-то не хочется.
– Ну, вестимо! – соглашается Василида, отирая тряпкою с табурета пролитую воду и подставляя его хозяйке:
– Нако-сь, устала, чай, родная.
Мать присаживается. Бледна и счастлива и с бескровными руками меж колен.
– Чем похвастаешь?
Василида смущенно наклоняет голову.
– Да что… ведра поизносились. Беспременно надыть жестянику отдать, пущай донья смастерит.
– Отдадим, – улыбается мать, – отдадим, Василидушка. Рассказывай дальше, что нового.
Еще ниже наклоняет голову Василида и тяжело вздыхает, боясь взглянуть на допрашивающую:
– Ничего, родная, вот те крест.
И молит сквозь слезы:
– Голубонька моя, сладкая, ох, грех мой перед тобой лежит…