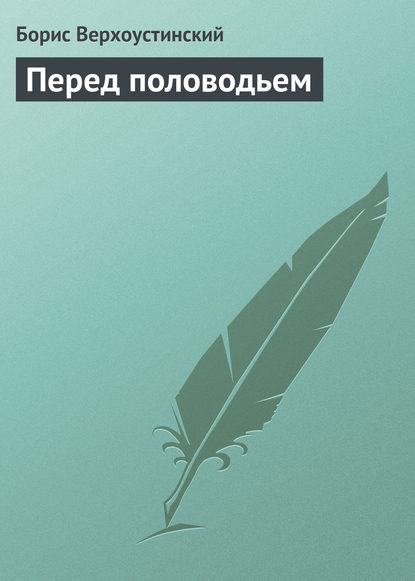По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перед половодьем
Год написания книги
1912
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Целует улыбающуюся харю.
Басня к приезду отца будет выучена.
11
Наползают серые будни.
Съеден окорок, от сладких булок – только сухие крошки, а горчица, разведенная в сочельник, засохла, надо заваривать новую.
Поздним вечером мать пишет письмо своей матери в кабинете мужа, при свете двух свечей в бронзовых канделябрах:
«Моя старенькая, моя одинокая!
Как я рада, что вы надумали к нам прокатиться! Скучно вам теперь в старом доме, в этих высоких комнатах… Ночью темною, под вой зимнего ветра – неправда ли? – вас охватывает странная жуть, все кажется, будто кто-то крадется, кто-то подслушивает, кто-то заглядывает в самую глубину сердца. Вижу вас, мамаша, на том диване, где умер Володенька, вижу клубок синей шерсти, перекатывающийся в рабочей корзинке, и ваши неутомимые пальцы, вяжущие на деревянных спицах теплую фуфайку своему внуку. Все вижу и хочется мне заплакать, почему так – не знаю. Быть может, жаль далекого-далекого детства… Помните, мамаша, как я любила убегать, на пасеку, к деду Михеичу, и как он угощал меня каждый раз внушительным ломтем хлеба, густо намазанным душистым медом?.. И как с покойным братцем Володенькой мы заблудились в чернолесье?.. Далеко это время!.. С мужем я живу не особенно дружно: он грубый человек и любит угнетать. Вскоре после нашего приезда высек Витю, и тот, бедненький, прохворал больше месяца. Теперь, слава Богу, Витенька вполне здоров, но иногда я его не узнаю, он мне кажется новым, что-то скрывающим от меня. Очень впечатлительный мальчик и прилежный: круглый день однажды учил басню, чтобы прочесть ее вам, когда вы приедете. „Ну, а бабушка?“ – ежедневно пристает ко мне; воображаю, какая будет радость при виде вас. Через недельку, перед отъездом, я еще напишу, чтобы вы знали, когда высылать Кузьму с лошадью.
Крепко целую вас, любящая дочь.
8-е января».
Но через неделю над листком почтовой бумаги у письменного стола сидит не она, а муж:
«Многоуважаемая Татьяна Филипповна!
К сожалению, жена не может приехать за вами, ввиду того, что заболела воспалением легких. Сперва у нее была простая инфлюэнца, которую она застудила, игнорируя, по своему печальному обыкновению, мой добрый совет – беречься и беречься.
Очень жаль, что все так сложилось, тем более, что, во всяком случае, встанет она нескоро. Конечно, дурного исхода болезни я не ожидаю, так как телосложение вашей дочери довольно сильное.
Остаюсь уважающий вас зять».
Запечатав письмо в конверт, несет его в кухню, к Василиде:
– Немедленно снаряжайся на вокзал и опусти в ящик. Надеюсь, почтовый еще не ушел.
– А боле ничего не надыть? – спрашивает Василида, нерешительно глядя на хозяина.
– Ничего, – задумывается тот. Ах да – лимон к чаю возьми, да, смотри, получше выбирай; ежели принесешь дохлый какой-нибудь, пошлю назад. Добротность лимона в упругости и чтобы без пятен. Поняла?
– Поняла, – усмехается Василида. Черный мужчина окидывает ее быстрым, любопытным взглядом, от которого она краснеет.
– А двугривенничек хочешь? – вдруг шепчет он, скверно прищурясь.
Василида потупляется:
– Да за что же?.. Ну, вот…
Неловко ей, переминается с ноги на ногу.
– А так себе, – шепчет отец: – ни за что…
И схватывает ее за подмышки:
– Ого! Да как у тебя тепло тут.
Василида вырывается:
– Не замай, хозяин… зазорно, чай; сама пластом, а он…
Но по тому, как Василида слабо сопротивляется своими дюжими руками, отец заключает, что она не прочь быть его наложницей, – только не теперь, а после, когда хозяйка выздоровеет…
Отец выпускает ее из объятий и, круто повернувшись на каблуках, уходит в спальню, к обложенной компрессами жене; Василида же задумчиво и смущенно смотрит ему в след, а затем, надев кацавейку и накинув на голову шаль, уходит на вокзал – опускать письмо, покупать в слободской лавочке лимон к чаю хозяина.
В спальне больная слабо стонет: «умру я, Степа!» – крупные слезы медленно сползают по бледному лицу к обострившемуся подбородку. Сухой, рвущий грудь кашель нарушает угрюмую тишину комнаты.
«Глаза как у Матросика!» – думает мальчик, сидя на кровати отца и беспечно болтая резвыми ногами.
Отец нахмуривает брови, скулы на его лице выдаются.
Нерешительно, как бы стыдясь, он берет с белого пикейного одеяла узенькую руку и прижимает к своим губам. Молчит.
– Умру я! – еще слабее повторяет больная.
Жалость и стыд заполняют склоненного над печальным ложем мужа, и хочется ему властною рукою вернуть нечто ускользающее в даль.
С бесконечной нежностью целует он узенькую кисть с голубыми жилками – сутулый, мрачный, страдающий.
– Женушка!.. Знаешь, я надумал послать в город, в теплицу, за ирисами, ты, ведь, их любишь, кажется.
Но она отрицательно мотает головой: не надо белых ирисов, ничего не надо.
«Плохо, брат», – думает сутулый мужчина, и неизвестно, к чему это относится.
«Завтра же рассчитаю Василиду!» – останавливается он на решении, со злорадством мечтая, и как она будет ползать у него в ногах, а он, суровый, холодно и резко будет говорить: «нам таких стерв не надо!»
И опять целует узенькую кисть:
– Поправишься, женка, поправишься, что и говорить… Ради Бога, слушайся всех докторских предписаний.
Чтобы скрыть волнение, он сморкается.
– Витя! – стонет больная болтающему ногой мальчику, – останешься один, будь умником, иногда вспоминай…
Маленький человек сладко зевает:
– Хорошо, мамочка!
И оживляется.
– Можно взять из буфета чуточку изюмчика? Не съели бы его мышки.
Басня к приезду отца будет выучена.
11
Наползают серые будни.
Съеден окорок, от сладких булок – только сухие крошки, а горчица, разведенная в сочельник, засохла, надо заваривать новую.
Поздним вечером мать пишет письмо своей матери в кабинете мужа, при свете двух свечей в бронзовых канделябрах:
«Моя старенькая, моя одинокая!
Как я рада, что вы надумали к нам прокатиться! Скучно вам теперь в старом доме, в этих высоких комнатах… Ночью темною, под вой зимнего ветра – неправда ли? – вас охватывает странная жуть, все кажется, будто кто-то крадется, кто-то подслушивает, кто-то заглядывает в самую глубину сердца. Вижу вас, мамаша, на том диване, где умер Володенька, вижу клубок синей шерсти, перекатывающийся в рабочей корзинке, и ваши неутомимые пальцы, вяжущие на деревянных спицах теплую фуфайку своему внуку. Все вижу и хочется мне заплакать, почему так – не знаю. Быть может, жаль далекого-далекого детства… Помните, мамаша, как я любила убегать, на пасеку, к деду Михеичу, и как он угощал меня каждый раз внушительным ломтем хлеба, густо намазанным душистым медом?.. И как с покойным братцем Володенькой мы заблудились в чернолесье?.. Далеко это время!.. С мужем я живу не особенно дружно: он грубый человек и любит угнетать. Вскоре после нашего приезда высек Витю, и тот, бедненький, прохворал больше месяца. Теперь, слава Богу, Витенька вполне здоров, но иногда я его не узнаю, он мне кажется новым, что-то скрывающим от меня. Очень впечатлительный мальчик и прилежный: круглый день однажды учил басню, чтобы прочесть ее вам, когда вы приедете. „Ну, а бабушка?“ – ежедневно пристает ко мне; воображаю, какая будет радость при виде вас. Через недельку, перед отъездом, я еще напишу, чтобы вы знали, когда высылать Кузьму с лошадью.
Крепко целую вас, любящая дочь.
8-е января».
Но через неделю над листком почтовой бумаги у письменного стола сидит не она, а муж:
«Многоуважаемая Татьяна Филипповна!
К сожалению, жена не может приехать за вами, ввиду того, что заболела воспалением легких. Сперва у нее была простая инфлюэнца, которую она застудила, игнорируя, по своему печальному обыкновению, мой добрый совет – беречься и беречься.
Очень жаль, что все так сложилось, тем более, что, во всяком случае, встанет она нескоро. Конечно, дурного исхода болезни я не ожидаю, так как телосложение вашей дочери довольно сильное.
Остаюсь уважающий вас зять».
Запечатав письмо в конверт, несет его в кухню, к Василиде:
– Немедленно снаряжайся на вокзал и опусти в ящик. Надеюсь, почтовый еще не ушел.
– А боле ничего не надыть? – спрашивает Василида, нерешительно глядя на хозяина.
– Ничего, – задумывается тот. Ах да – лимон к чаю возьми, да, смотри, получше выбирай; ежели принесешь дохлый какой-нибудь, пошлю назад. Добротность лимона в упругости и чтобы без пятен. Поняла?
– Поняла, – усмехается Василида. Черный мужчина окидывает ее быстрым, любопытным взглядом, от которого она краснеет.
– А двугривенничек хочешь? – вдруг шепчет он, скверно прищурясь.
Василида потупляется:
– Да за что же?.. Ну, вот…
Неловко ей, переминается с ноги на ногу.
– А так себе, – шепчет отец: – ни за что…
И схватывает ее за подмышки:
– Ого! Да как у тебя тепло тут.
Василида вырывается:
– Не замай, хозяин… зазорно, чай; сама пластом, а он…
Но по тому, как Василида слабо сопротивляется своими дюжими руками, отец заключает, что она не прочь быть его наложницей, – только не теперь, а после, когда хозяйка выздоровеет…
Отец выпускает ее из объятий и, круто повернувшись на каблуках, уходит в спальню, к обложенной компрессами жене; Василида же задумчиво и смущенно смотрит ему в след, а затем, надев кацавейку и накинув на голову шаль, уходит на вокзал – опускать письмо, покупать в слободской лавочке лимон к чаю хозяина.
В спальне больная слабо стонет: «умру я, Степа!» – крупные слезы медленно сползают по бледному лицу к обострившемуся подбородку. Сухой, рвущий грудь кашель нарушает угрюмую тишину комнаты.
«Глаза как у Матросика!» – думает мальчик, сидя на кровати отца и беспечно болтая резвыми ногами.
Отец нахмуривает брови, скулы на его лице выдаются.
Нерешительно, как бы стыдясь, он берет с белого пикейного одеяла узенькую руку и прижимает к своим губам. Молчит.
– Умру я! – еще слабее повторяет больная.
Жалость и стыд заполняют склоненного над печальным ложем мужа, и хочется ему властною рукою вернуть нечто ускользающее в даль.
С бесконечной нежностью целует он узенькую кисть с голубыми жилками – сутулый, мрачный, страдающий.
– Женушка!.. Знаешь, я надумал послать в город, в теплицу, за ирисами, ты, ведь, их любишь, кажется.
Но она отрицательно мотает головой: не надо белых ирисов, ничего не надо.
«Плохо, брат», – думает сутулый мужчина, и неизвестно, к чему это относится.
«Завтра же рассчитаю Василиду!» – останавливается он на решении, со злорадством мечтая, и как она будет ползать у него в ногах, а он, суровый, холодно и резко будет говорить: «нам таких стерв не надо!»
И опять целует узенькую кисть:
– Поправишься, женка, поправишься, что и говорить… Ради Бога, слушайся всех докторских предписаний.
Чтобы скрыть волнение, он сморкается.
– Витя! – стонет больная болтающему ногой мальчику, – останешься один, будь умником, иногда вспоминай…
Маленький человек сладко зевает:
– Хорошо, мамочка!
И оживляется.
– Можно взять из буфета чуточку изюмчика? Не съели бы его мышки.