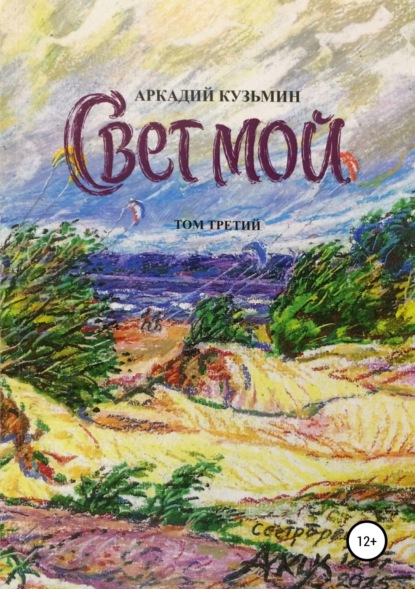По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сюда, в Пренцлау, Управление полевых госпиталей въехало пять дней назад. Кое-где в городе еще дымились развалины.
Отсюда многие немецкие жители, известно, сбежали на Запад; они, естественно, боясь отмщения от наступавших русских, степных варваров, как внушали им нацисты, искали спасение в зоне действовавших англо-американских армий; они, несомненно, знали и думали о том, что гитлеровцы досадили населению западных стран несравнимо меньше всех злодеяний, совершенных ими в России с нашим народом, и потому боялись расплаты. Да, для фашистов даже не существовало понятие «мирные русские жители», а были лишь одни враги, подлежащие уничтожению. Потому столь велики у нас, русских, людские потери среди населения.
Майор Рисс сказал Антону, что он только что вернулся из покоренного Берлина и что все мы еще непременно побываем в нем.
А снилось Антону этой ночью удивительное: он домой спешил. В верховьях Волги уже пышно глохло лето, и он раным-рано шел напрямик, поднимаясь на косогор по росистой, воглой, еще не скошенной траве. Шел налегке. Один. Восторженный. Налетный туман легко, тая, струился солнечно-жемчужно рассвет. И под ногами, по самой гуще травяной, свито-спутанной, повсюду отливались серебристые капельки-росинки – на резных листочках, чашечках, узорах. За ними по голубой траве стлался матово темневший след…
И тут-то ударили опять выстрелы. Антон проснулся, услыхав определенно отличительные звуки близкого боя; это вернуло его к реальной обстановке, к зачерневшей вновь всамделишней ночи, которая теперь показалась ему просто удручительной пустотой. После такого красочного сна.
Между тем пальба вокруг неиствовала, все усиливаясь. Огненные вспышки освещали, точно взблестки молний (из-за светомаскировочных штор, закрывавших окно), внутренность довольно вместительной кухни (рабочее и также жилое помещение для сержанта Коржева и Антона) с кирпичной плитой, накрытой фанерным листом. Создавалась иллюзия грозящей опасности. И Антон, уже вскочив поспешно, с изумлением сел в постели; и, вглядываясь в мерцавшие перед собой потемки, затаенно вслушивался в шквал выстрелов. Что же там, за окном, прорвало все-таки?
Фронт, известно, ушел дальше. Берлин пал, фашисты сдавались. И Антон с сержантом никогда не запирали дверь, ведущую из кухни в распланированный сад, густевший зеленью день ото дня. Факт, что исключалось всякое нападение на советских солдат. Но могло все же статься, что прорвался откуда-то неразгромленный до конца неприятель…
В мгновенье с кровати сиганул и удалой (и везучий во всем) Коржев; он тут же – в нижнем белье и босой – подскочил к комоду, на котором хрипел сбившийся с волны приемник, не выключенный с вечера. Сержант, звук, поймав, усилил его громкость – и вот был теперь ответ всему: торжественно диктор (Левитан) дочитывал по радио сообщение о безоговорочной капитуляции Германии!
– Так вот оно что: мир настал! – помешано-радостно вскричал Коржев. – Слышишь, мир, Антон, настал! – И с проворством, словно от этого зависела вся жизнь, как был полураздетый, кошкой вспрыгнул на прикрытую плиту и, распахнув окно, стал также стрелять-салютовать из пистолета в небо. Перед Антоном вознеслась во взблесках огней сержантская фигура в белом, и виделось ему в этом нечто символично-волнующее.
Стихийному победному салюту не было конца – беспредельной тяжести бои и муки с людских плеч свалились. Радовались все беспамятно.
А утром бойкая, веселая Люба Мелентьева, ловко подзадорила Антона: она, словно угадыватель дум, горячо призвала его нарисовать во всю стену – вместо портретов – вот такую майскую картину, чтоб запомнилось это первое мирное утро, – и показала на белопенный остров цветущей черешни, слепившей своим светом за окном среди светло-желтой зелени.
– Ну, какая сказочность, посмотри, Антоша: глаз не отвести, я люблю, – наступала Люба, раскрасневшись, в воодушевлении, ей свойственном. – Чисто завораживает. Можно ведь переродиться наново. – И Люба, мечтательно полуприкрыв глаза и поводив из стороны в сторону головой с коротко – под мальчишку – остриженным затылком, притопнула каблучком туфли и артистично прокружилась на другой вокруг себя. И руки приподняла, точно хотела затем обнять именно Антона.
И собравшиеся здесь штабисты дружно поддержали ее: надо б, мол, попробовать, чего ж. Всем понравилась ее красивая идея, столь созвучная всеобщему теперешнему настроению. Улыбался и оказавшийся в дверях капитан Шведов, по-всегдашнему обтянутый ремнями, в темно-зеленой гимнастерке…
Неожиданно их посетили приодетые немки с кувшинами, с кастрюлями и всерьез требовали у них, военных, дать им молока; они нелогично ссылаясь на то, что каждая из них сдавала бесплатно молоко для немецкой армии, что германское правительство взамен в честь победы обещало также выдавать им бесплатно молоко и что, значит, теперь русские, коли победили, должны дать его им. Тем самым будто само собой подразумевалось, что победители как бы автоматически становились должниками обещанного. Все предельно просто: долг переходящий, так сказать. Перед ними, исправными немецкими домохозяйками. Эта обратная их логика было позабавила, но победители бескорыстно поделились с ними съестными продуктами: ведь малые дети ни в чем не были виноваты…
Было решено отпраздновать День Победы на завтра, в четверг, 10 мая; но решили не случайно так, откладывая: иначе и невозможно было бы толком подготовиться к большому праздничному ужину. Теперь, как отвалилась война, все такие счастливо-неопомнившиеся ходили-слонялись, что, оглушенные неумолчной пальбой да веселыми разговорами при встречах, точно действительно потеряли сами себя, а вместе с этим и свои обычные способности хотя бы хорошенько слышать друг друга, а не только еще думать о чем-то и, выходит, заниматься чем-то несущественным, уже никому ненужным, по крайней мере, в текущие дни.
Захваченный всеобщим торжеством, Антон не знал, куда ткнуться от избытка впечатлений. Но и в светлый час его сторожила совестливость, она напоминала о себе. Как нашептывала: «Неотступней теперь станет мама ждать всех нас домой: нашего отца, несмотря на полученное (уж двухлетней давности) извещение о том, что он пропал на фронте без вести, сына старшего, Валерия, который уже служит в далекой Монголии, и, конечно же, меня».
– Вот покончим со смертоносными запасами, чтобы сынишке моему через два десятка лет эту пакость в руки брать не пришлось, – врастяжку говорил ему тридцатитрехлетний шофер Маслов, его первейший друг, давняя симпатия, говорил с несгоняемой с лица улыбкой. Он, сидя на подножке полуторки-санитарки, шпарил вверх из трофейного карабина, достреливая трофейные же патроны, привезенные в оцинкованных коробках. – Я пропустил из-за войны самый интересный возраст сынишки – от двух до шести лет. Когда меня призвали, и я расстался с домашними, по первости мне сильно недоставало его; я по нему сильней, чем по жене, заскучал, ей – право. – Он перезарядил карабин и произвел в небо очередной выстрел. Снова загнал в ствол патрон и бабахнул. И прокричал затем под выстрелы других солдат:
– Нет, мы поживем еще, если уцелели, живы!
Эти слова предназначались уже розоволицему и конопатому Яше Гончаренко, тоже шоферу, который, встав с пенька и отряхнувшись от пустых гильз, доверчиво скалясь по-ребячьи, жестом показал на свои оттопыренные уши:
– Случай был, когда на охоте мой дядя в лодке стал палить из двустволки через мою голову. Я вышел уже из лодки на берег и вижу, что люди губами шевелят, а не слышу, что они говорят: так оглушило. То же и сейчас: заложило.
– Ты, Яша, не скромничай; с нами на войне и похлеще бывало, вспомни, как тебя миной шандарахнуло – с палочкой ты ходил.
На это Гончаренко лишь опять зажестикулировал смешливо – дотронулся до своих ушей и отрицательно помотал головой.
К Антону подошел весь заинтригованный сержант Волков, также его новый друг, поступивший недавно сюда из госпиталя – после фронтового ранения и лечения. Волков с каким-то значением вручил ему письмо, сложенное привычным треугольничком из желтоватого бумажного листка:
– Возьми-ка, Антон, – тебе адресовано.
– От мамы оно. – Антон развернул письмо, собираясь прочесть.
– А я, извини, еще не могу привыкнуть к этому, – сказал виновато Волков.
– К чему?
– Ну, я ведь первоначально думал, что ты кругом сирота, – признался сержант простодушно, – ежели попал сюда, под фронт.
– Нет, меня не подобрали; я сам просил командира, испросился у матери, убедил ее. У нее расписку взяли… Говорил же и тебе: так невольным образом сложилось, – объяснил опять сержанту, и замечая в себе неделикатность: не хотелось снова – вслух ли или про себя – вспоминать прожитое. Не хотелось и сердиться на друга из-за этого. Ведь поначалу они расскандалились – просто не поняли друг друга на ходу, не дорасслышав.
Да, может быть, судьба уготовила Антону пройти именно этим путем, какой он выбрал добровольно, неосознанно, но готовно в эти годы после того как отец пропал без вести на фронте, после чего выходило, что никто из членов их семьи уже не служил в Красной Армии. А может быть, Антону было просто предназначено посмотреть на все, набраться терпения, как и многим.
Строчка за строчкой материнские слова, бегущие по бумаге без всяких запятых и точек, толкались, гудели голосами наперебой и доносили до Антона весть из дома – издалека:
«…Все по хозяйству порушенному немцем хлопочу не осталось ведь вспомни ни двора ни кола и все стараюсь сделать чтоб жить детушкам вы не виноваты что подвихнулась наша жизнь и Наташа-то уже невеститься учительствует нет только женихов война их поубивала она всех поразила у всех отняла здоровье даже у молоденьких кого жалче всего а во мне оно какое вложено и не вынешь не заменишь тебе известно да еще сердечные боли сказываются не обижайся на меня мать свою что тебе всегда открываюсь чистосердечно с Наташей и меньшими дочерьми мы дружно живем. Саша пасет завевшийся наконец скот колхозный понахаживается от зари до зари в четырнадцать лет больше паломника ноги обломает и в школу вот не ходит с тремя классами заглох. Да и у тебя сынок с учением вышел пробел большой неизвестно когда учеба наверстается. Хлеб едим покамест еще примесной с травой, но чище прежнего не такой что бывала одна лебеда с хлебной полки тек на лавку, и пухли мы от нее, а вспомнишь долгую немецкую оккупацию бомбежки землянки и этот-то кусок становится поперек горла застревает, да только нужно жить не для себя, а для вас детей и еще нужна еда на несколько ртов и нужна одежа с обувиной которая горит постоянно надвинешь на ноги сапоги рваные и галоши-колхозники и возишься не разгибаючись…»
ХII
Теплым вечером 10 мая к означенному времени, точно вдруг удлинившемуся, полнилась сдержанным гуденьем голосов нарядных офицеров и солдат столовая – два смежных зальца – с расставленной едой на столах, накрытых белыми скатертями. Всего было более полста человек. Все рассаживались. Составленный в первом большом помещении общий – для неофицерского состава стол, за которым уже привычно балагурили собравшиеся, по служебному долгу возглавлял меланхоличный тонкотелый майор Голубцов, замполит; он, суховато-требовательный и никогда не выходивший из себя, подсел сюда к подчиненным с той важной миссией, чтобы провозгласить здравицу в честь Победы. Этого все ждали.
Однако начало все откладывалось отчего-то. Вчера улетел вызванный в Москву подполковник Ратницкий, и оттого ли и сейчас на праздничном ужине не было должного порядка, привычно-совместимого с человечностью и властностью в характере командира. Оставшееся в части начальство, обязанное руководить, отчего-то бегало, суетилось, а кто-то из него еще не пришел к столу.
Нетерпение у всех росло. Те, кто посмелее, предлагали:
– Может, мы все же начнем? Будем разливать? Мочи нет…
– Да, время подпирает. Пора бы приступить, товарищ майор.
– Еще пяток минут… – Невозмутимо поглядывал на свои наручные часы замполит. – Нет капитана Шведова, старшего лейтенанта Конова, других. Подождем еще чуть. Теперь нам некуда спешить, я думаю…
Веселье все исправляло. Но едва был назван Шведов, некоторые женщины странно посмотрели на сидевшую Любу и на черешневую ветку в бело-розовом цвете, поставленную ею в вазе посреди стола. И Люба несколько смутилась, было это видно.
Говорливая медработник щупленькая Коргина – короткие темноватые волосы странно торчали на ее небольшой голове – почему-то засмеялась. И погромче уже рассказала об одном случае, происшедшем с ней давно на ткацкой фабрике. Когда возникло стахановское движение, девушки – прядильщицы работали по нескольким сменам, не уходя домой, и отдыхали по два часа в душевой. Раз молодой начальник цеха, пройдоха, и направился сюда, чтобы поживиться. Да она открыла кран душа и обдала его холодной водой. Так что сразу отбила охоту. В другой же раз она ехала с мужем в стареньком лимузине, и этот начальник гладил ее по спине. Муж заметил такое, остановил автомашину, молча вышел и молча же вытолкал его на улицу… И ей бывает смешно это вспомнить.
Однако она внезапно посерьезнела, заоткровенничалась вновь:
– Я проболталась в этой жизни, как в мартовской проруби. – И закашлялась. – Ой, девка, совсем не годишься, испортилась вся, все в груди отбила. Вообще-то язычница я нечестивая… А вы не отвлекайтесь, Антоша, не увлекайтесь…
Антон же поглядывал тем временем на сиявшую, точно именинница, восемнадцатилетнюю чернушку Иру, служившую во втором отделе, своего давнишнего друга, переговаривался с ней.
Как внезапно точно рюмка у кого-то в руке сухо хрустнула, переломившись, либо преждевременно кто-то хлопнул в соседнем зальце пробкой, откупорив бутылку шампанского. Но то был настоящий выстрел. Уличный. А следом ударил уже второй, бухнул же и третий. Все за столом позатихли встревожено, переглядывались. Чертыхнулся Маслов. Надо б пойти, выяснить…
«Неужто те психоватые бойцы – соседи наши – взаправду завелись спьяна?» – припомнились Антону сумрачно-расхлистанные скандалисты, пригрозившие солдатам-хозяевам в военторге крепко «угостить» вечерком из-за того, что не досталось им пива. – «Дурни непотребные: совсем спятили…»
Только когда в столовую вбежал бледный старший лейтенант Конов, автоначальник, по его лицу стало видно, что стряслось что-то непоправимое. И когда он выпалил:
– Парторга Шведова ранили тяжело! – поднялся шум: вскочив и разноголоса крича, некоторые солдаты хотели выбежать и утихомирить стреляющих буянов, несмотря на то, что замполит, стоя и повелительно махая руками, призывал к благоразумию – требовал тишины и внимания.
– Товарищи, не паникуйте зря, – просил он. – Ну, подпили… Обойдется все по-тихому. Не то перестреляться можно. Вы поймите…
Конов же сразу позвал Маслова и они вместе с Гончаренко и обезумевшей Любой выскочили вон – для того, чтобы отвезти раненого в госпиталь. Все беспокойно ерзали за столом, так как еще слышались беспорядочные одиночные выстрелы.