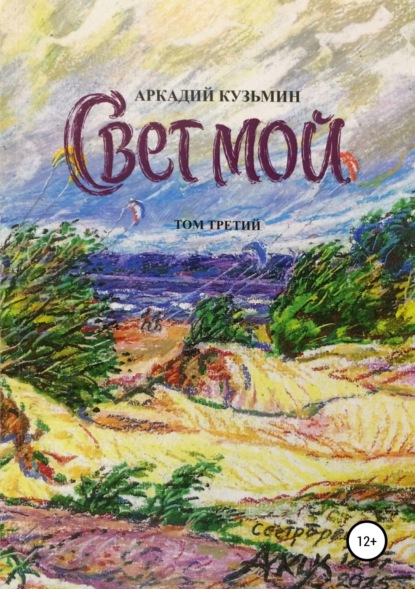По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Свет мой. Том 3
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Роман "Свет мой" в четырех томах – это художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, отразившихся в судьбах рядовых героев романа. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941-1945 годы, во время перестройки и разрушения СССР. Они жили, любили, бились с врагом и в блокадном Ленинграде, и в Сталинграде, и в оккупированном Ржеве. В послевоенное время герои романа, в которых – ни в одном – нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и дружили. Пройдя весь XX век, каждый из них задается вопросом о своем предназначении и своей роли в судьбах близких ему людей.
ТОМ ТРЕТИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
В поле, что под Ржевом, рожь шумит, шумит; она колосится, и ее пыльца по ветру видимо летит, распыляется облачком летучим, тающим на глазах. Нужно это видеть.
С благодатью Антон Кашин помнил, вспоминал о малой милой родинке своей, к сердцу льнувшей, чувства тешущей, давшей ему понимание что-то в жизни лучше понимать и принимать в душе. Но словами-то не объяснить, не показать любовь тайную. А слухом притупленным уже не услышать ток полей умиротворяющий, ибо неторопко-торопливо идет твое время и ты еще плутаешь в верности своей в городе Петра, белокаменном и независимом, не играющим с тобой в жмурки, в перебежки, – плутаешь, вынужденный ему подчиниться. В том, как, куда тебе ступить – он тебе диктует, а не ты ему.
Так думалось Антону. Он, неисправимый-таки пенсионный однолюб, аккуратно, можно сказать, жил-доживал в Ленинграде-Петербурге и при нынешней квазирыночной экономике с нещадной обираловкой неимущих, трепотней либералов; доживал без всяких излишеств и рублевом накопительстве, не то, что при долларах или евро (с чего их иметь ему?). Однако вот жил так, странно и совестно, не чувствуя больших лет своих, в расположении своего еще какого-то способного разума и духа, духа своего.
Потому он, наверное, вопреки всему, и продолжал писать (чаще маслом) пейзажи натурные, как повелось у него, – от восхищения перед неизменной живописностью природы, ее даром, озарением людей. И как только распалась его творческая связь с издателями – когда шустрые, небитые голубые мальчики, вскормленные на хлебах комсомольских, по-живому перекроили все в стране, хотя их было меньшинство, – он стал устраивать выставки своих работ в тех приятных заведениях культуры, где все охотно его привечали с ними, сотрудничая.
Впрочем, и раньше, бывало, его некоторые друзья и приятели, издательские художники-графики, систематически имевшие заказы на оформление художественных изданий, откровенно удивлялись ему:
– И ты, друг, еще этюдничаешь, что ль!? Ну, уволь-ка нас от этого. Мы-то уж отпрактиковались век. Чай, и достаточно уже имеем и умеем что проиллюстрировать и за то получить на лапу кровные – на хлеб. Касса – вот – за углом коридора.
Что говорилось даже как-то поэтично. Хоть записывай.
Да и дома жена Люба всеобычно приварчивала:
– И когда ты только уймешься с красками? Все плодишь свое добро? Ну-ну! И куда деть его потом? Скажи! Ты хорошо подумал? Кто станет возиться с ним? Наша дочь? Боже упаси!
Тут ее не переспорить: бесполезны его несогласие, его доводы. У них с давних пор уже было взаимное расхождение по многим вопросам бытия, искусства и политики. Уж она-то, Люба, которая хорошо занималась домашними делами и осенней заготовкой варенья, – она все видела и все знала в особенной степени наперед, а еще нравоучительствовала, главное, толково, просвещенно. И вот Антон находился как бы в некой тихой оппозиции к ней – стороной, защищающий свою правоту. Но в репликах он лишь спокойно обозначал чуть-чуть ответную защиту. Ведь нелепо и смешно оправдывать, точно ты мальчик, свои серьезные увлечения в конце жизни и вместе с тем жалко обижать ее, Любу, жестко говоря ей, что она неправа. Да и на это у него попросту не хватало времени. Он-то был вот как уверен в себе, в своих действиях, в своих творческих возможностях.
Люба особенно ужасалась при виде скопившейся сотней-другой картин, готовившихся к очередной выставке. Советовала:
– Говорю тебе: теперь-то просто поживи и отдохни в свое удовольствие. Купи куда-нибудь путевку… В тот же санаторий…
Был знойный июльский день. Антон, побывав на выставке своих картин в библиотеке, в здании, что на 6-й линии Васильевского острова, вышел прямо на площадь к станции метро, на автобусную остановку, и стал ждать подъезда нужной маршрутки. Хотя поначалу уже засомневался чуть: был разрыт Светлановский проспект – здесь ремонтировали какие-то серьезные подземные коммуникации – на нем-то – в отведенном коридоре – стопорилось продвижение колесного транспорта. Зато маршрутка доезжала до самого дома, до угла его. Прямая выгода.
Солнце золотило лица горожан, беззаботно снующих с питьем и едой туда-сюда прогулочным шагом по площади и примыкающей вылизанной пешеходной улице – линии, напичканной кафе, магазинчиками (не то, что в грязном дворе), или сидящих кто где любителей покрасоваться на людях, тренькающих на каком-нибудь инструменте и напевающих романсы. Играющих на публику. Раскрепощающихся.
Умелый старый гармонист в серенькой кепке сидел вблизи на складном стульчике и пиликал себе на гармони разные мелодии.
«Ну, у каждого здешнего посетителя свои игрушки, которые он выставляет напоказ – имеет право; гармонист развлекает прохожих музыкой, а я пишу картины – тоже занимаю людей, любителей живописи; вроде бы тоже хвастаюсь на склоне лет своей умелостью, своим художническим мировидением и мастерством, – подумал Антон. – Музыкой-то не владею нисколько, сожалею о том (слон на ухо мне наступил); хотя мои сестры – отличные певуньи были с самого их детства, особенно старшая сестра, которая уже покоится на подмосковном кладбище – рядом с матерью нашей; отлично пел (и даже в ансамбле был) и старший брат, который уже покоится на Ржевском кладбище… Нас всех война разбросала по земле…»
Антон стоял в тени какого-то стенда. Подошла очередная (не его) маршрутка. Из нее вышла с родителями юркая девочка лет девяти и тут же живо запрыгала в такт услышанной музыки.
«Вот так начинает кто-то молодой, как эта девочка», – подумалось Антону. И он ярко вспомнил балерину в Мариинке и свою первую любовь.
Кто-то, проходя вблизи, художественно проговорил:
– Чего тут чирикать? Мы из разных профсоюзов… Проснись!
Антону ночью слышалось: рожь в поле шумит. И дорога снилась. Вроде бы в подземке – езда в метро, в вагоне, среди толкучки людской. Он сидел на месте. И вдруг – как с неба упал – какой-то верзила плотного телосложения и крупной бычьей физиономией (похожий на того спортсмена, который давным-давно увел у него Оленьку) вперся сюда же, навалившись на него, хилого (по сравнению с ним) Антона, всей тяжестью своего плотного мясистого тела, и еще спросил с ехидцей:
– Я не мешаю тебе?
– Я лучше уступлю Вам. – И Антон встал.
И упитанный наглец довольный воссел на его место, больше ничего не говоря и не выражая своим лицом ничего, кроме тупого самодовольства, что ныне стало свойственно – после либеральной революции – таким уверенно самодовольным и нахрапистым толстякам.
А стоило ли им уступать? С моральной точки зрения. Ведь в 1941 – 1945 годах мы, русские люди, бились, старались не уступать наглым захватчикам. Ценой жизни…
На этой Василеостровской выставке молодой корреспондент расспрашивал у Антона, как и когда он начал рисовать, и когда решил, что будет художником. И жаловался: почему-то те фронтовики, которых он просил рассказать о себе, отказывали ему.
– Стал рисовать спонтанно, – сказал Антон. Как все в жизни человеческой: все необъяснимо совершается с малых лет. Чаще вопреки всем предугадываньям и желаниям. Видите: мои картины красочные, но камерные, домашние, а не выставочные. Раз в манежном зале я ужаснулся, увидав свой пейзаж, – ужаснулся его ничтожности на фоне полотен других художников. Работы других живописцев всегда кажутся мне лучше, проработанней. Только время рассудит. Все.
Он не стал больше ждать маршрутку. Пошел ко входу в метро.
II
К тому времени как Антон Кашин попал в военно-медицинскую часть, обслуживавшую раненных фронтовиков непосредственно в зоне боевых действий, он почти не брал в руки ни карандаш, ни краски: с началом войны и немецкой оккупации у него начисто пропала жажда рисования. Он даже и не думал о том. Правда, за исключением тех недавних моментов, когда по освобождения от оккупантов его попросили односельчане срисовать с фотокарточек портреты погибших сыновей. И это у него получилось прилично, он увидел так.
Но и теперь, в июне 1943 года, он не помышлял ни о каком-то таком своем даре в рисовании. Стало нужно еще вжиться в быт военный. Для него, мальчишки, это не сразу далось.
В разгар Курской битвы сам подполковник Ратницкий, командир, предложил Антону навестить родных, пока находились вблизи Ржева, – несомненно, с профилактической целью: чтобы облегчить для него, юнца, добровольное вживание в непривычные условия и быт военной службы среди военнослужащих. А еще, понятно, ввиду ожидаемой вот-вот новой передислокации куда-то к Западу. Это чувствовалось по всему.
Холеный сержант Пехлер, хозяйственник, устойчиво расставив на мягкой траве возле палатки длинные ноги в галифе и в добротных сапогах, объяснил Антону коротко следующее: домой его попутно подбросит на бричке ездовой Максимов, но назад уже пешком нужно вернуться. Спросил:
– Сумеешь ли?
– Спасибо Вам! – От радости Антон говорил вполне уверенно, без всякого хвастовства. – Приду… Не сомневайтесь! Здесь чуть больше десяти-то километров – пустяк; оттуда сначала во Ржеве возьму вправо, потом – за ним – с шоссейки сверну налево, тут, где торчит стрелка-указатель «Хозяйство Ратницкого». Проще же простого…
– Ну, порядок! Давай!
– Кругом здесь все голым-голо после длительных боев – далеко видать… Не прогляжу…
– Ну, так валяй, коли не шутишь. Счастливо! Ждем! Привет матери…
– Спасибо!..
Мать и Наташа Кашины уже навестили Антона здесь, в березнике; они возникли возле армейской палатки в момент, когда он, залезши наверх ее и маскируя ее, укладывал на нее зеленые ветки. Его очень обрадовала неожиданность свидания. И теперь – еще предстоящее, новое. Были новые волнения. Как все произойдет?..
К сожалению, солдатскую форму под его мальчишеский росточек, как обещали, еще не подобрали – он был в прежней сатиновой рубашке и ботинках. Впрочем – имел на то свое понятие.
– Но-о, мои лошадки ми-и-илые! – тронул поводья да прицокнул языком немолодой костистый солдат Максимов, и потрепанная бричка, на ящиках которой Антон воссел рядышком с ним, мягко выкатилась на зеленый разлив полей с петлявшей проселочной дорогой под неранним уже солнцем.
Пик лета. Незаметно подошел. Зрели высокая тимофеевка, полынь, а где и рожь; жирнел бурьян на месте сплошных пепелищ, окопов, бесчисленных воронок; фиолетово краснели кашка повсюду и Иван-чай на канавах, буграх; гроздьями зажелтела сильная пижма. Однако сейчас его мысли больше занимала предстоящая встреча с домашними: что он вскорости скажет своим? И что они скажут ему? Как обрадуются? И он от волнения даже мало разговаривал с ездовым, кстати, тоже малоразговорчивым, – под мерный, мирный скрип колес он как-то ушел весь в себя, лишь глядел перед собой. Так что они вдвоем почти молча ехали – каждый всяк по себе.
Как скиталец, отсутствовавший дома полный месяц, подъехал к тетиной избе, давшей после освобождения им, многочисленной родне, временный приют. И, радостно встреченный всеми домочадцами – матерью, сестренками, братом и тетями с бабушкой, скоро сидел в переду в их окружении… словно бы на углях: право, испытывал нечто похожее на угрызение совести, с одной стороны, и на чувство жалости, с другой, за то, что предстояло ему сделать дальше – вслед за тем, что начал он сам сознательно. Случилось, что он попал-таки, нет, вернее, запутался-таки в сложнейших противоречиях.
Вот тетя Поля более других могла его понять. Она была издавна его лучшим, понимающим другом. Вон еще когда.
Аркадий Алексеевич Кузьмин
Роман "Свет мой" в четырех томах – это художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, отразившихся в судьбах рядовых героев романа. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941-1945 годы, во время перестройки и разрушения СССР. Они жили, любили, бились с врагом и в блокадном Ленинграде, и в Сталинграде, и в оккупированном Ржеве. В послевоенное время герои романа, в которых – ни в одном – нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и дружили. Пройдя весь XX век, каждый из них задается вопросом о своем предназначении и своей роли в судьбах близких ему людей.
ТОМ ТРЕТИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
В поле, что под Ржевом, рожь шумит, шумит; она колосится, и ее пыльца по ветру видимо летит, распыляется облачком летучим, тающим на глазах. Нужно это видеть.
С благодатью Антон Кашин помнил, вспоминал о малой милой родинке своей, к сердцу льнувшей, чувства тешущей, давшей ему понимание что-то в жизни лучше понимать и принимать в душе. Но словами-то не объяснить, не показать любовь тайную. А слухом притупленным уже не услышать ток полей умиротворяющий, ибо неторопко-торопливо идет твое время и ты еще плутаешь в верности своей в городе Петра, белокаменном и независимом, не играющим с тобой в жмурки, в перебежки, – плутаешь, вынужденный ему подчиниться. В том, как, куда тебе ступить – он тебе диктует, а не ты ему.
Так думалось Антону. Он, неисправимый-таки пенсионный однолюб, аккуратно, можно сказать, жил-доживал в Ленинграде-Петербурге и при нынешней квазирыночной экономике с нещадной обираловкой неимущих, трепотней либералов; доживал без всяких излишеств и рублевом накопительстве, не то, что при долларах или евро (с чего их иметь ему?). Однако вот жил так, странно и совестно, не чувствуя больших лет своих, в расположении своего еще какого-то способного разума и духа, духа своего.
Потому он, наверное, вопреки всему, и продолжал писать (чаще маслом) пейзажи натурные, как повелось у него, – от восхищения перед неизменной живописностью природы, ее даром, озарением людей. И как только распалась его творческая связь с издателями – когда шустрые, небитые голубые мальчики, вскормленные на хлебах комсомольских, по-живому перекроили все в стране, хотя их было меньшинство, – он стал устраивать выставки своих работ в тех приятных заведениях культуры, где все охотно его привечали с ними, сотрудничая.
Впрочем, и раньше, бывало, его некоторые друзья и приятели, издательские художники-графики, систематически имевшие заказы на оформление художественных изданий, откровенно удивлялись ему:
– И ты, друг, еще этюдничаешь, что ль!? Ну, уволь-ка нас от этого. Мы-то уж отпрактиковались век. Чай, и достаточно уже имеем и умеем что проиллюстрировать и за то получить на лапу кровные – на хлеб. Касса – вот – за углом коридора.
Что говорилось даже как-то поэтично. Хоть записывай.
Да и дома жена Люба всеобычно приварчивала:
– И когда ты только уймешься с красками? Все плодишь свое добро? Ну-ну! И куда деть его потом? Скажи! Ты хорошо подумал? Кто станет возиться с ним? Наша дочь? Боже упаси!
Тут ее не переспорить: бесполезны его несогласие, его доводы. У них с давних пор уже было взаимное расхождение по многим вопросам бытия, искусства и политики. Уж она-то, Люба, которая хорошо занималась домашними делами и осенней заготовкой варенья, – она все видела и все знала в особенной степени наперед, а еще нравоучительствовала, главное, толково, просвещенно. И вот Антон находился как бы в некой тихой оппозиции к ней – стороной, защищающий свою правоту. Но в репликах он лишь спокойно обозначал чуть-чуть ответную защиту. Ведь нелепо и смешно оправдывать, точно ты мальчик, свои серьезные увлечения в конце жизни и вместе с тем жалко обижать ее, Любу, жестко говоря ей, что она неправа. Да и на это у него попросту не хватало времени. Он-то был вот как уверен в себе, в своих действиях, в своих творческих возможностях.
Люба особенно ужасалась при виде скопившейся сотней-другой картин, готовившихся к очередной выставке. Советовала:
– Говорю тебе: теперь-то просто поживи и отдохни в свое удовольствие. Купи куда-нибудь путевку… В тот же санаторий…
Был знойный июльский день. Антон, побывав на выставке своих картин в библиотеке, в здании, что на 6-й линии Васильевского острова, вышел прямо на площадь к станции метро, на автобусную остановку, и стал ждать подъезда нужной маршрутки. Хотя поначалу уже засомневался чуть: был разрыт Светлановский проспект – здесь ремонтировали какие-то серьезные подземные коммуникации – на нем-то – в отведенном коридоре – стопорилось продвижение колесного транспорта. Зато маршрутка доезжала до самого дома, до угла его. Прямая выгода.
Солнце золотило лица горожан, беззаботно снующих с питьем и едой туда-сюда прогулочным шагом по площади и примыкающей вылизанной пешеходной улице – линии, напичканной кафе, магазинчиками (не то, что в грязном дворе), или сидящих кто где любителей покрасоваться на людях, тренькающих на каком-нибудь инструменте и напевающих романсы. Играющих на публику. Раскрепощающихся.
Умелый старый гармонист в серенькой кепке сидел вблизи на складном стульчике и пиликал себе на гармони разные мелодии.
«Ну, у каждого здешнего посетителя свои игрушки, которые он выставляет напоказ – имеет право; гармонист развлекает прохожих музыкой, а я пишу картины – тоже занимаю людей, любителей живописи; вроде бы тоже хвастаюсь на склоне лет своей умелостью, своим художническим мировидением и мастерством, – подумал Антон. – Музыкой-то не владею нисколько, сожалею о том (слон на ухо мне наступил); хотя мои сестры – отличные певуньи были с самого их детства, особенно старшая сестра, которая уже покоится на подмосковном кладбище – рядом с матерью нашей; отлично пел (и даже в ансамбле был) и старший брат, который уже покоится на Ржевском кладбище… Нас всех война разбросала по земле…»
Антон стоял в тени какого-то стенда. Подошла очередная (не его) маршрутка. Из нее вышла с родителями юркая девочка лет девяти и тут же живо запрыгала в такт услышанной музыки.
«Вот так начинает кто-то молодой, как эта девочка», – подумалось Антону. И он ярко вспомнил балерину в Мариинке и свою первую любовь.
Кто-то, проходя вблизи, художественно проговорил:
– Чего тут чирикать? Мы из разных профсоюзов… Проснись!
Антону ночью слышалось: рожь в поле шумит. И дорога снилась. Вроде бы в подземке – езда в метро, в вагоне, среди толкучки людской. Он сидел на месте. И вдруг – как с неба упал – какой-то верзила плотного телосложения и крупной бычьей физиономией (похожий на того спортсмена, который давным-давно увел у него Оленьку) вперся сюда же, навалившись на него, хилого (по сравнению с ним) Антона, всей тяжестью своего плотного мясистого тела, и еще спросил с ехидцей:
– Я не мешаю тебе?
– Я лучше уступлю Вам. – И Антон встал.
И упитанный наглец довольный воссел на его место, больше ничего не говоря и не выражая своим лицом ничего, кроме тупого самодовольства, что ныне стало свойственно – после либеральной революции – таким уверенно самодовольным и нахрапистым толстякам.
А стоило ли им уступать? С моральной точки зрения. Ведь в 1941 – 1945 годах мы, русские люди, бились, старались не уступать наглым захватчикам. Ценой жизни…
На этой Василеостровской выставке молодой корреспондент расспрашивал у Антона, как и когда он начал рисовать, и когда решил, что будет художником. И жаловался: почему-то те фронтовики, которых он просил рассказать о себе, отказывали ему.
– Стал рисовать спонтанно, – сказал Антон. Как все в жизни человеческой: все необъяснимо совершается с малых лет. Чаще вопреки всем предугадываньям и желаниям. Видите: мои картины красочные, но камерные, домашние, а не выставочные. Раз в манежном зале я ужаснулся, увидав свой пейзаж, – ужаснулся его ничтожности на фоне полотен других художников. Работы других живописцев всегда кажутся мне лучше, проработанней. Только время рассудит. Все.
Он не стал больше ждать маршрутку. Пошел ко входу в метро.
II
К тому времени как Антон Кашин попал в военно-медицинскую часть, обслуживавшую раненных фронтовиков непосредственно в зоне боевых действий, он почти не брал в руки ни карандаш, ни краски: с началом войны и немецкой оккупации у него начисто пропала жажда рисования. Он даже и не думал о том. Правда, за исключением тех недавних моментов, когда по освобождения от оккупантов его попросили односельчане срисовать с фотокарточек портреты погибших сыновей. И это у него получилось прилично, он увидел так.
Но и теперь, в июне 1943 года, он не помышлял ни о каком-то таком своем даре в рисовании. Стало нужно еще вжиться в быт военный. Для него, мальчишки, это не сразу далось.
В разгар Курской битвы сам подполковник Ратницкий, командир, предложил Антону навестить родных, пока находились вблизи Ржева, – несомненно, с профилактической целью: чтобы облегчить для него, юнца, добровольное вживание в непривычные условия и быт военной службы среди военнослужащих. А еще, понятно, ввиду ожидаемой вот-вот новой передислокации куда-то к Западу. Это чувствовалось по всему.
Холеный сержант Пехлер, хозяйственник, устойчиво расставив на мягкой траве возле палатки длинные ноги в галифе и в добротных сапогах, объяснил Антону коротко следующее: домой его попутно подбросит на бричке ездовой Максимов, но назад уже пешком нужно вернуться. Спросил:
– Сумеешь ли?
– Спасибо Вам! – От радости Антон говорил вполне уверенно, без всякого хвастовства. – Приду… Не сомневайтесь! Здесь чуть больше десяти-то километров – пустяк; оттуда сначала во Ржеве возьму вправо, потом – за ним – с шоссейки сверну налево, тут, где торчит стрелка-указатель «Хозяйство Ратницкого». Проще же простого…
– Ну, порядок! Давай!
– Кругом здесь все голым-голо после длительных боев – далеко видать… Не прогляжу…
– Ну, так валяй, коли не шутишь. Счастливо! Ждем! Привет матери…
– Спасибо!..
Мать и Наташа Кашины уже навестили Антона здесь, в березнике; они возникли возле армейской палатки в момент, когда он, залезши наверх ее и маскируя ее, укладывал на нее зеленые ветки. Его очень обрадовала неожиданность свидания. И теперь – еще предстоящее, новое. Были новые волнения. Как все произойдет?..
К сожалению, солдатскую форму под его мальчишеский росточек, как обещали, еще не подобрали – он был в прежней сатиновой рубашке и ботинках. Впрочем – имел на то свое понятие.
– Но-о, мои лошадки ми-и-илые! – тронул поводья да прицокнул языком немолодой костистый солдат Максимов, и потрепанная бричка, на ящиках которой Антон воссел рядышком с ним, мягко выкатилась на зеленый разлив полей с петлявшей проселочной дорогой под неранним уже солнцем.
Пик лета. Незаметно подошел. Зрели высокая тимофеевка, полынь, а где и рожь; жирнел бурьян на месте сплошных пепелищ, окопов, бесчисленных воронок; фиолетово краснели кашка повсюду и Иван-чай на канавах, буграх; гроздьями зажелтела сильная пижма. Однако сейчас его мысли больше занимала предстоящая встреча с домашними: что он вскорости скажет своим? И что они скажут ему? Как обрадуются? И он от волнения даже мало разговаривал с ездовым, кстати, тоже малоразговорчивым, – под мерный, мирный скрип колес он как-то ушел весь в себя, лишь глядел перед собой. Так что они вдвоем почти молча ехали – каждый всяк по себе.
Как скиталец, отсутствовавший дома полный месяц, подъехал к тетиной избе, давшей после освобождения им, многочисленной родне, временный приют. И, радостно встреченный всеми домочадцами – матерью, сестренками, братом и тетями с бабушкой, скоро сидел в переду в их окружении… словно бы на углях: право, испытывал нечто похожее на угрызение совести, с одной стороны, и на чувство жалости, с другой, за то, что предстояло ему сделать дальше – вслед за тем, что начал он сам сознательно. Случилось, что он попал-таки, нет, вернее, запутался-таки в сложнейших противоречиях.
Вот тетя Поля более других могла его понять. Она была издавна его лучшим, понимающим другом. Вон еще когда.