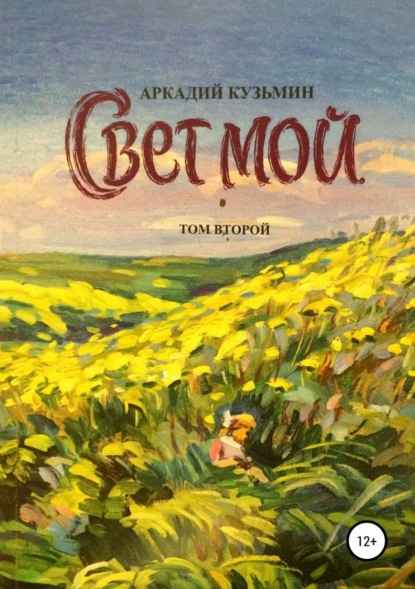По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы-то уже помним, – сказал Антон, – как к нему (под окна) приходили такие и клянчили: «Дядя Вася, отдай финку, я больше не буду…»
– А он в ту пору лес валил, возил, пилил, колол и продавал на рынке – один на паре лошадей. Ну, потом, когда я уже согласилась быть его женой, он обрадовался очень: он был стеснительный и совестливый и счел, что из-за его худой – бунтарской – славы уж никто из невестившихся девушек не пойдет за него замуж. И родители-то всех невест будут против. Нет, мои бабушка и дедушка тоже, как и я, изъявили свое согласие. Дедушка по-здравому, по-жизненному рассудил: «Счастье в ее руках – она сумеет с ним совладать. Она будет заместо матери для младших сестер своих». Так предугадано и стало. Сестры, как к матери заглядывали ко мне: «Анна, надо это сшить, или скроить; Анна, надо это сделать, помоги». Потом свои дети – вы – пошли. Один за другим. Люльку мне тетка Нюша дала – с отцепом. Двое на таком отцепе качались, двое – на жердине, какую Василий приладил, а трое потом (как и жердинка эта прикончилась) – в кроватке, собранной им же, отцом. Ты, Наташа, качала ее ногой – сама полетела в перековырку и кровать с Верой в перековырку. Думали, что Вера будет горбатой. По врачам сколько ходили, ой!
И не видала жизни я. Приданого у меня было мало, а у Василия – и того меньше. Гол сокол. Дедушка тогда еще сказал со смешком: «О-о, у нашей родни много везде знакомых; пойдет по ним Анна – по кусочку наберет, проживет». А Василий тут же и добавил: «И мне уж кусочек достанется-перепадет». Поедет он, бывало, в лес, навозит деревьев, нащепает дранку, продаст ее, и, глядишь, приобретем что-нибудь. И хозяйственный Трофим даже удивлялся на него, брата: «Вот какой молодой хозяин-то! Толковый!» Тот норовом угодил в отца: жену гонял, гонял детей. Опускался в водку, стекла бил. А Василий, если и выпьет, случалось, то не шумит, уляжется прямо на полу тихо-спокойно, не нужно за ним ухаживать – бузить не будет, все будет хорошо. Ну, а руки золотые. Ой! Все, что ни задумает, то и сделает, смастерит. И печку топил, и хлеб пек, и коров доил – когда я заболела. И говорил после: «Все буду делать, но коров доить больше не буду. Нет, хуже всего – корову доить». Конечно, руки мужские – не женские. Корова чувствует. Да сноровка нужна. И подход к той же скотине. Ласка, терпение.
С разговором этим Анна в точности забылась, где находится, и дрожать почти перестала. Глаза у ней чисто засветились, заблуждал на лице легкий румянец. Любо-дорого было ее слушать.
– А потом бабка Степанида с тетей Полей построились напротив? – спросил Антон.
– Да, в тридцать пятом, или тридцать шестом уже году. Папка ваш дал им отступного – выплату за кухню; они и наглядели сруб, перевезли его сюда.
– Да, попозже, мам, немножко.
– Может быть, сынок, не спорю. Всего ведь не упомнишь подлинно: в памяти мешается.
– Потому как знаю то, что мы ученики, ходившие в эту школу именно – то есть в дом этого дяди Трофима сосланного – еще бегали сюда, к стройке, на переменках и еще месили ногами глину, раствор, для печки тети Полиной. Много было глины.
– Ну-ну!
– Зато и оделяла нас тетя Поля довисевшими спелыми, черными сливами, такими вкусными, каких я сроду не ел. У нас-то в огороде, они не успевали дозревать: дозреть им было некогда, – все правильно.
Кто-то рассмеялся на Антоновы слова.
– А ты помнишь, сынок, – разговорилась заинтересованно Анна, – что вы с ней же, тетей Полей, тогда вообще дружились так, что не разлей водой, и ты за ней таскался по укосам лет что-то с пяти – все природой восторгался? Тебе и матери тогда не нужно было. И она, бывало, пихала тебе булочку или гостинчик, или сахарину, тогда как ее болтавшийся уже сынок, Толя, покашивался на тебя неодобрительно; совала она это и сквозь нашу отдушину-прорез в бревенчатой стене, какой сообщались мы друг с другом семьями, если что затребуется. Бревно было просто выпелено, и затычкой-бруском деревянным затыкалось, и вот, как то, так взаймы передавала хлеб и соль, и масло льняное, когда оно было, и что-нибудь там еще, что нужно. Не-не, не скажу, Поля и Василий на редкость ладили во всем, во всех делах; он ей помогал и план вспахать, и она его слушалась и почитала очень.
Я так думаю, что, наверно, тетя Поля со своей ворчливой, шамкающей Степанидой давно уже дома, приехадчи; наверно, на теплой печке лежит – греется и ждет – не дождется нас. Как судьба нас разметала! Даже и не верится… До сих пор мне не верится. Нет, это не со мной… не с нами…
VII
А тем временем на воле громоздко-слышно двигались войска чужие.
Лежа на соломенной подстилке, побледневший, сникший Саша, казалось, еще болезненней морщился от этих доносившихся звуков: сколько он теперь ни отдыхал, полеживая, у него все так же, если не хуже, болели бока, легкие и ноги распухшие, что он стискивал даже зубы, когда вставал и ходил. Что значит: восемь ночей февральских, пронзительных поспали в той конюшне на елках, у самой двери дырастой. Там, должно, и прохватило особенно его. А лечить-то нечем, негде и некому. Как же дальше идти теперь? Ой, все сложно и все тяжело.
И никто тогда даже представить себе не мог, что впоследствии обнаружится у него, Александра. Спустя десять лет, его по призванию на службу в Советскую Армию вскорости демобилизуют, как непригодного к ней: остались у него от этих дней рубцы на легких. Вот какая крепкая натура: хоть и с зарубками внутри, но не сломилась совсем, выдюжила все-таки.
У ребят, у взрослых чесались уже покраснело-обшершавленные и потрескавшиеся, цыпками покрывшиеся руки и, что необычно, даже некого ругнуть за неряшество допущенное, недогляд. На иное сейчас было направлено все внимание, все помыслы и расходовались силы. Оттого, по-видимому, и Большая Марья будто еще нежней прижимала к себе лопотавший живой комочек в одеяле и, укладывая спать, сидя на коленях, как бы позабывчиво – обо всех – ласкала:
– Мой хорошенький, мой хутулечек! Мой хутулешный малыш! Ти-ри-ри, ти-ри-ри, та-ра-ра, та-ра-ра… Поурчи, поурчи, хорошенький…
«Каково-то малолетним маяться, – опять задумалась Анна после, когда вполголоса, душевно-тонко, казалось ей, напевала Наташа свой любимый, светивший ей «костер», романс, а Ира, распустив чудесные, доставшиеся от своей матери, темно-каштановые волосы, в страдальческо-тоскующем напряжении (от песни еще) ушивала что-то. – Взрослым проще. Но избяные стены не спасают нас, не отгораживают неприступно от ворогов, от ужаса. Хилое прибежище в войну. Сколько ж все-таки пришлось нам перемыкаться везде, заночевывать в окопах – почти каждую ноченьку, когда бомбили немцы, и потом, когда бомбить стали уже наши; сколько ж нам пришлось прожить и в тесной удушливой, как вся теперешняя жизнь, землянке, которую часто заносило снегом и приходилось утром разгребать, чтобы выползти из нее на свет божий. Что и говорить, натерпелись мы всего-всякого. Сполна. По гроб жизни хватит. И житейски вроде оправданно это. Во всяком случае извечная мудрость отмечает так: не увидишь, мол, горького, не попробуешь и сладкого. Но эта-то философия житейская, философия народная отдает прежде всего дань выстраданному или возможному; она заставляет нас размышлять, подводить некие балансы, так сказать. Свой ум – царь в голове (если есть, конечно, он). Это точно. Но понатерпелись все мы, русские, все-таки не потому, что этого хотели как-то или были до того ленивы или неудачливы, что не смогли, как ни хотели, отвратить от себя такой беды, а только потому, естественно, что родились в свое время, не в другое, – в это-то губительное время и попали в колесо всепожирающей и оглушающей войны, вот и все. Вина лежит на тех, кто раскрутил его что было сил. Самых дурных. И поэтому также страдает Ирочка поныне – по убитому возлюбленному. Любовь к ним пришла не вовремя. Для чего же, собственно, мы родились и страдаем? Важно верить…» И зашлась, заойкала:
– Ой-ой-ой! Ну, Наташа, Дуня… Помнит кто-нибудь, какое же нынче число?
Отлипнув от стекол оконных, еще заледенелых вполовину, быстро распрямилась Дуня (ее сынуля Славик, укутанный на совесть, спал безмятежно на полу – бочком):
– Ты что, Макаровна?! Второе марта, кажется…
– Что, маленький, что, маленький? – склоняясь, все наговаривала в забвении Большая Марья. – Глазки закрывай. Баю-баюшки-баю… Придет серенький волчок…
– И забыла, и забыла я совсем, доченька моя, Наташенька!..
Та, тоже всполошась, перестала петь; глянула с недоумением: что запричитала?
– Ведь ты именно второго марта родилась. День рождения!…
– О-о, как славно! Музыка какая… – На Наташу накатился вдруг настоящий приступ буйного, хотя и негромкого смеха, прерывавшего ее, что ни Ира, ни Гриша, ни Тамара и ни Тоня Макаровы, вообще не знавшие теперь за мачехой даже того, чтобы хотя изредка так же вспоминать о собственных там именинах, совершенно сейчас не знали, как отреагировать на ее эту внезапную смешливость – только хлопали на нее, что называется, глазами. – Ну, такая музыка… Мне вовсе ни к чему сейчас… До чего ж это смешно звучит: сегодня – мой день рождения… А где же, спрашивается, он?..
– Война, доченька, заодно слизала языком. Еще моли богу, что мы сами выбрались оттуда, пока целы. Ведь на нас-то одежонка кое-как латаная, драная, обувинка тоже кой– какая – мыслимо ли нам дальнюю тернистую дорогу преодолеть и выдержать?
– Да, навряд ли. Что ты! Но насчет того, что «выбрались», по-моему, мамуля, еще рановато говорить. Дай окончательно домой добраться. Вот тогда – действительно…
– Ну, все-таки, не говори: обсушились, обогрелись тут и поели кое-что – и воскресли словно, что еще смеемся над собой, – говорила Анна убежденней прежнего. – Только б Саше полегчало… надо же…
Однако она вскоре доложилась детям так:
– Ну, сегодня я не буду спать и не ложусь! Мне предсказываться будто стало, чтоб не спать. Меня снова в жар кидает, господи; что-то страшно мне совсем! Эти еще вроде ползают под окнами, а наши почему-то не палят – не дают нам знак. Конец всему, что ли, скоро (может, этой ночью) будет? Душа ноет так. Да, я чувствую нутром своим: война меня убила до того, что радостной минуты у меня уже не будет никогда; никогда ее не будет, как я ни надеялась еще. Хоть бы книжку почитать какую поскорей. Вся истосковалась ведь. А в книжке, может, я нашла б другую жизнь – и ушла б, ушла б туда…
А в этот самый час (недаром Анне предсказывалось что-то да кидало ее в непонятный жар) под Знаменском на Волге, находившимся, примерно, в двадцати пяти километрах отсюда, северо-западней, там, где, огибая Ржев, закруглялся самый-самый фронт, его правое крыло, – там голодная и досмерти избитая, теряла сознание и мысленно уже прощалась со всеми, валяясь в холодневшей грязи, ее третья сестра Маша, красавица в прежней жизни: она лишь хотела проползти к своей землянке, откуда ее выгнали, и взять оттуда зарытые запасы продуктовые, но немецкий солдат-фронтовик, евший каждый день свою, доставляемую ему, пищу и взявшийся за мзду – фамильные часы – пропустить ее туда и обратно и при этом не убить, прикинулся верным данному слову честным коммерческим человеком – и стал вдруг отнимать у нее часы и нестоящие вещи, зверски дубася ее по голове здоровущей палкой, а она уж бессознательно цеплялась и цеплялась за вещички, теряя сознание, но никак не желая расставаться с ними, потому как в них фактически заключалась жизнь пятилетнего сынишки Олега, которого накануне ранил на расстоянии другой немец – ранил пулей в живот навылет (пуля, к счастью, не повредила внутренности, а только зацепила кожу) – он сейчас лежал, больной, раненый, недалеко тут, в укрытии и просил у матери пить-есть.
– Я принесу тебе, я принесу, – шептали непослушные ее губы.
VIII
Конца, который подразумевала Анна и на который теперь привычно уповали все, еще не было и видно, – было еще мало признаков, свидетельствующих о его приходе. Либо как-то все затормозилось где-то, буксовало, может быть; либо приближалось очень незаметным, черепашьим шагом, что никак не соответствовало взлету ожидания. Даже более того. Так, еще не сгустилась синь мартовского вечера, но уже нависла вновь непривычно-гулкая, напряженнейшая тишина. И она томила и пугала.
Анна, как ни караулила покой других, задремала, свернувшись калачом на соломе на боку; ее сломили все-таки вкупе утомленность дикая, голодание, сердечные волнения и, как следствие этого, срыв психический. Не случайно она иззевалась вечером. И глаза у ней уж слипались. Невозможно!
В разрывавшихся световыми вспышками потемках Анна, угадывая, куда, опрометью убегала от гремевших за ней преследователей, продиралась сквозь какую-то чащобу ветвей и корней наваленных деревьев, по сыпучему песку, падала, вставала на ноги и бежала снова, снова, покуда не открылся ей спасительный простор земли с людьми и мелкими постройками, приткнутыми к его краям. И жуткого вида огромные бизоны, носороги и какие-то пресмыкающиеся первобытные животные, ползущие, известные ей лишь по картинкам в книжках, подталкивали ее сзади, пыхтя. Она выбежала на простор. Но он округленно-мрачно был очерчен со всех сторон, точно заперт, зримо выпуклым небесным сводом; свод давил, наверное, насыщенностью черноты, как будто закоптел он чрезвычайно сильно или был у людей давно уже нечищен и не мыт: им все было некогда, как всегда. Не доходили руки до него. Или, может, потому ей казалось так, что это еще не был день, или вообще был какой-то новый странный мир, в котором (Анна разглядела вдруг) уже мальчишки воевали и лупили в упор друг друга, и ходили в атаку друг на друга, потрясая оружием и призывая: «На штурм, вперед!» Все заняты были войной, и Анне не к кому было обратиться за спасением. Она, останавливаясь, ужаснулась вслух: «Что, и до них, ребятишек, уже дошло – хочешь не хочешь?» Однако бабка, Степанида Фоминична, прошамкала беззубым ртом, оказавшись рядом; она сказала, что это они играют только. Вгляделась Анна – и действительно: была у детей игра такая. Неисживная. Дети бегали, стреляли и кричали: «Падай! Я тебя убил, ты убитый». «А ты, Настя, впереди меня не лезь – ты ведь санитарка; вот меня убьют, тогда будешь меня перевязывать…» И – что было уже совсем чудовищно – пуляли хлебушком друг в друга. Даже целыми ломотьями. Никогда неслыханное и не виданное дело! Отчего сердце прыгнуло у Анны, разорвалось. И она чуть не упала. Кругом голодают все, даже мрут от голода, а они, мерзавчики, что вытворяют безнаказанно, надо же! Где же их родители? Сказать не умеют, чтобы чтили, как святыню, хлеб; или нужных слов не знают? Ласковости нет в них? Так зачем тогда и народили столько, если не несут в душе за малых никакой ответственности, только-то собой, чувствами своими занимаются, если не загадывают дальше, чем на день? Зачем?
Спокойной к безобразию Анна, разумеется, не могла остаться; она к хлебобросателям наярилась, чтобы между делом их, негодников, одернуть и пропечь, если они еще мало смыслят в чем-то. Да в этот самый момент стремительно из-за зубчато черневшего вдали леса выкатились огромные, в полнеба, накаленные докрасна колеса – вот одни-одни колеса, без каких-нибудь кабин, без какой-нибудь брони на них (это можно б было увидеть, если б было что еще). Они, сея круги огненные, настигая людей, рассыпавшихся от них, прокатились по середине этой странной местности, заколпаченной-таки глухим сводом, – опаляли, мяли все собой, беспощадные ко всем, ко всему живому – малому, большому. И от них-то дернуть было некуда. Ни в какую щель забиться. Бесполезно.
Кто пустил их? Почему они гуляют так свободно по земле? Что же люди смотрят?!
Все, сломя бежит куда-то в панике. Не с кем, не с кем, хотя людей скачет всюду много, переброситься словами, поделиться удивлением происходящему.
Тут оранжевые закрутившиеся смерчи ослепили Анну. Над ней затрещало что-то учащенно-быстро. Будто разошелся небный свод наполовину. Вместе с земным простором. Как раз от той линии, где колеса промахали. Одна половина – та уже дивно голубела, а другая – эта – сделалась еще черней. Дышать стало легче оттого, что разошелся свод. И туда, на волюшку. Анна ударилась. Но заманчивый голубой свет, как и солнечный в облачный день, все уползал от нее, перемещаясь по земле, хоть и был он почти рядом, рядом.
Из-за этого – лихорадочно соображая и натруживаясь до предела, чтобы только лишь как-нибудь достичь этой светлой, ускользаемой от нее, полосы – Анна слушала очень рассеянно все толковое, не пустозвонное, что тут ей все же предрекла впопыхах уже знакомая молодоглазая старушечка, неожиданно подвернувшаяся на пути и засеменившая за нею бодро, поспеваючи.
– Кто же все это сделал? – не выдержав, вскричала Анна для того, чтобы быть услышанной в этом аду. – Какой злодей?
– Сами-то, желанная, и сделали, – прокричала также удивительная старушенция.
– Кто же «сами»? Разве есть резон самим?..
– Руками собственными. Люди все. Замыслили…
– Помилуйте, да как же?