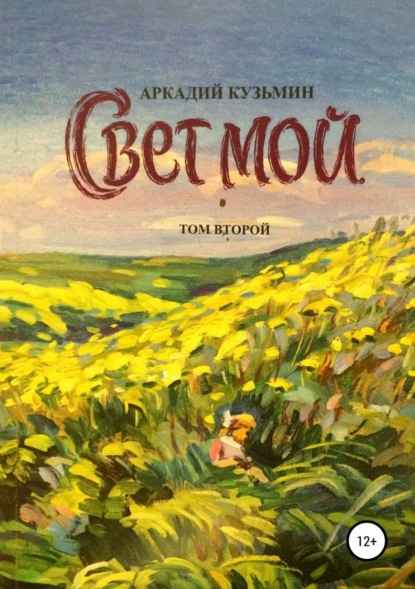По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сильней застучало у нее в висках: «тук-тук, тук-тук». Веки глаз задергались.
И мальчишки словно в боевое охранение на ходу построились – вокруг Наташи, тети Дуни, Веры, Иры. Окружив их, были начеку. И так перемещались, порой почти отталкивая немцев, перепрыгивая через ноги тех. Особенно под горку, там, где санки еще сами поживей катились.
Шла игра немая, кто кого; нельзя было оплошать. Солдаты ни на шаг не отступали, и их все же беглецы не подпускали ближе. Это длилось уже не минуту и не пять – вечность целую. И неизвестно, чем бы это кончилось и на что бы в крайнем случае пошли мальчишки, женщины, если бы преследователи совсем распоясались – здесь, на безлюдье… Все-таки в Антоновых руках была увесистая палка, в изголовьях санок был топор, и при ближайшей-рукопашной схватке на рыхлом снегу еще неясно, чем бы могло все закончиться. Только нужно уже врукопашную сцепиться с немцами и их не отпускать на расстояние, чтобы они не успели пустить карабины в ход.
Антон думал: это было главное. Он смотрел практически…
Однако выручающе впереди, за откосом, замаячила какая-то деревня, вжавшаяся в покрывало снега; близились ее слепые, набочившиеся избы. Подле них, среди сугробов, серые грузовики елозили. Почему, должно быть, и оба немца так же неожиданно, как они приклеились перед этим, поотстали молча. Втянув в плечи головы. Они словно лунатики, опять восвояси повернули, прочь заковыляли. Только после этого все беглецы с облегчением вздохнули, оживились нервно.
– Знать бы – взял пулемет с собой и – чик! Чик! – покосил бы их, – пробасил серьезно Саша, отдуваясь.
Анна не поверила своим ушам, всполошилась:
– Какой пулемет, сынок?
– Да немецкий, новенький.
– О чем, свет, помилуй говоришь?! Не мели, пожалуйста… И так голова болит.
– И гранаты, думаю, нам тоже бы не помешали. – Саша оглянулся на отставших, словно измеряя на глазок расстояние до них. – У меня в одном местечке все припрятано. Летом спер у них.
– Господи! Час от часу мне не легче с вами…
– А еще две противотанковые мины…
– Сашенька, как домой вернемся – выкинь все немедленно, прошу! Ведь взорвется, покалечит. Руки, ноги оторвет. Инвалидом станешь.
– Нет. Зачем же я храню? Наши нас освободят – нашим и отдам.
– Ну, Антон, ты-то старше и умней – ты-то знал об этом? Не следил за ним? Что же ты теперь молчишь?! – Анна укоряла их в проделках. За спиной у ней.
И Антон брата тотчас приструнил:
– Сашка, верно, давай не болтай; что-то растрепался нынче, вижу – еще рановато. И нежнее успокоил мать: – Мам, ты больше не волнуйся из-за нас. Это его ноги довели. Обозлили немцы…
Впереди, куда поспешали выселенцы, был будто какой мрачноватый тупик, и на нем сходился, сужаясь, гребенчатый массив леса. Там, в тупике, происходило какое-то нервное движение: то ли грузилась и выезжала отсюда немецкая часть, то ли еще что подобное. Однако своевременно заметили стоявшего посреди сужавшейся дороги чистокровного эсэсовца, который повелительно для них уже воздел руку вверх: стоять! Снова чуть было по-глупому не влипли. Из огня да в полымя.
Сейчас же донеслось знакомое оттуда:
– Was?! Wohin?! Zuruk! Zuruk! – зашагал эсэсовец к ним. С выправкой железной повелителя. Все оставил – зашагал навстречу.
– Скорей разворачиваемся, ну! – скомандовал Антон. – Побежали! Сюда, за машины…
Дожидаться приглашения особого не стали. Ни к чему. Это было уже знакомо. Могло дорого стоить. Вдогон вроде бы эсэсовец пустился – да пробежками (и откуда силы-то взялись?) ушли от него, маневрируя за автомашинами. Правей обогнули этот пункт, кромсая снег. Все взопрели, отдышаться не могли.
Потом еще плутали долго, тяжело. Саша, совершенно замученный болью, плакал, стискивая зубы. И уж почти поминутно отдыхал. Наконец попали на лесную безлюдную дорогу со следами шин и повозничьих колес и лошадиных ног. Осины и ели дремали, как завороженные, – не шелохнулись.
– Мамка, мамка, какой чудный запах от хвои исходит, чувствуешь! – взбудоражено воскликнула Наташа. – Будто бы что от свежих огурцов.
– Небось! – выдавил Саша сквозь слезы. – Сюда, скажешь, и укроп еще добавить?
Засмеялись все, опять довольные своей сопутствующей удачливостью. Врага не было здесь видно. Но со строгостью Анна прикрикнула:
– Тише вы! Не болмочите зря! Так нарваться можно. Не заметишь, как…
Когда расступился лес, окончился, солнце опустилось уже низко. По ним, струясь, сказочно переливались хрустальные сосульки, свисавшие с крыш деревенских изб (с крыш капало), и золотисто-розовые косящие лучи высвечивали горбыли заснежено-чешуйчатых полей с синими проемами, провалами.
В деревне (это было Папино) также вроде не было ни души, ни одного немецкого солдата – все покинуто, брошено. И на главной ее улице беглецы еще вертелись, растерявшись оттого, что соображали, куда идти дальше. Как из ближайшей избы стремглав выбежала раздетая молодуха, вроде б чачкинская тетя Фекла, которую Анна немножко знала, и отчаянно замахала рукой.
– Быстрей, быстрей давайте в дом, – прокричала она, – и сидите смирно, а то вас проработают. Вон – бегите в старостин дом.
Кажется, с нею там и двое мужчин было. И она указала в какую можно – на большую пустовавшую избу. И все ходоки хожалые один за другим сиганули в нее, втащили санки в коридор. Заперлись и попрятались.
Оказалось, чистая случайность помогла им, что они не напоролись на врага: сюда вошли во время смены вражеского караула. Или же солдаты как раз ушли в избу греться… Только запрятались в избу – уже двое немцев заступили на дежурство, продефилировали по дороге. Мимо окон…
К счастью, ходоки в этой избе и заночевать решили, если вышло так, с тем, чтобы лучше отдохнуть, поесть то, что бог послал, обогреться, обсушиться, а главное, чтобы теперь, когда до дома пройти оставалось по подсчетам около двенадцати километров, зазря не наткнуться на немецкие посты.
Тут излишне торопиться не годилось. Можно было все испортить.
II
Итак, все пока удачно складывалось. Судьба миловала, охраняла. Тотчас унялось сердцебиение опять, едва укрылись от недобрых глаз в чужих, кем-то обжитых и брошенных поспешно, стенках; только подле окон не толклись – остерегались быть замеченными с улицы, – таясь, с недоверием вслушивались в нависшую настороженно-неправдоподобную тишину. И неясность, эта неподвижность необычная пугали тоже.
По-прежнему хотелось сильно пить. Всем хотелось пить. Но не меньше каждым голод чувствовался – вследствие того, что с самого утра ни у кого во рту не было и крошки; так что у всех основательно подвело животы, и слегка подташнивало всех. Теперь надо было позаботиться хоть о каком-нибудь обеде, надо было для начала принести воды с колодца и дровишек со двора.
Анна, кажется, уже руководила всеми. Удивительно!
Обледенелый сруб колодца с цепью виднелся в окно. Был он на расстоянии лишь четвертой отсюда вправо избы наискоски – избы о трех веселых, в резных охристых наличниках, окнах. Однако бабы засудачили и не пустили туда тех, кто помоложе и кто, соответственно, побыстрее мог бы сбегать, – помнили, что молодые рисковали собой сейчас больше. Вызвались сходить (и настояли) молчаливо-безропотная Авдотья, сестра Большой Марьи, и порозовевшая вмиг Дуня.
Они внешне подделываясь под старух, закутали поглуше в коричневые платки лица, сгорбились, и вот их две темные фигурки с ведрами ушмыгнули туда, по-кошачьи прижимались, лепились к стенкам замеревших затененных вечером изб и оплывшим фиолетовым в тени сугробам.
И Анна, замирая вновь, следила за ними в уголок окна и мысленно, ревнивым взглядом, вела их бережно в оба конца; притом она честила себя в душе, как только могла за то, что ее не пустили. Уж лучше б сама, она думала, пошла за этой водой; она б переживала несравненно меньше за себя, чем за них! Это ж хуже казни.
Но пока она думала так, в то самое время как посланные уж несли колодезную воду, расплескивая ее от торопливости, глуховато где-то вскричал радостный Наташкин голос:
– Ура! Спасены! Мы спасены!
Оторвалась Анна от окна, не веря и досадуя: что все значит? Где? И почему такой восторг? А у ног ее, из лаза в подпол, уже сияла Наташа, высунувшись с найденной картошкой в руках; она нашла остаточки ее, правда, мелкой – с воробьиное яичко, в разрытой там кем-то потайной ямке; нашла и остатки ржи в сундуке, перемешанной с землей (по-видимому, немцы брали ее для кормления лошадей), – пуда два. Следом и ребята – Антон, Гриша – вернулись с добычей: наткнулись во дворе на кадушку с квашеной капустой. Так обеспечились едой. Не худо.
Как ни изголодались, поначалу Анну даже передернуло от того, что собирались они сделать, – как так, без спросу взять не принадлежащее тебе, положенное не тобой? Разве можно? Креста нет на нас! Это все равно что воровство. Что ж, владельцы возвратятся к пустой ямке? Не найдут ведь ничего. Чем жить будут? Загадывали ведь на будущее. Однако дочь ей выложила с простотой естественной и неопровергаемыми доводами: все равно все пропадет – не спасешь разрытое. А нам – пользу услужает вовремя: сейчас насытимся. И голод переборем. Может, нашими последними припасами там, дома, тоже кто-то пользуется, не спросясь. Так и помогается друг другу у людей.
– Ну, не говори. Как же жить тогда придется?
– Проживем. Главное теперь – вернуться. Что ты, мамушка!..
Несколько горстей ржи смололи на мукомолке – кругляке – для ржаного супа.
Темнело. Расплывались и терялись за избой звонкие мартовские блики, тени. А здесь, подле затопленной большой удобной печки, с пооббитыми, точно искусанными кем-то боками, с неразбитым еще подом, Анна даже отошла душой, взбодрилась, точно подкрепленная так наилучшим – нравственным – лекарством. Она сноровисто делала дела. И головокружение у ней само собой утихло. Даже будто ей уже подумалось под веселое трещание дров в огне: «Ну и хорошо, родная, дети мои, и ты снова с ними вместе, ладитесь; потому твоя изболевшая душа становится на месте, болит меньше, – тебе легче, легче, что и говорить…» На какое-то мгновение ей показалось впрямь, что это был ее дом родной. Точно так же, как еще казалось ей по временам, что все это происходит никак не с ней, потому что на такое у ней просто не хватило б сил и мужества. Но только это показалось на мгновение. Для того, чтобы проверить, что она ничуть не ошибается, она машинально, не отходя от печки, вскинула глаза на матицу, что над нею проходила, – и не увидала там привычные по дому цифры «1964», вырезанные Василием перед уходом на фронт. Цифры эти обозначали предполагаемый год смерти Василия. Так еще во время гражданской войны предсказал ему один гадатель. В окопах на Украине. Василий вырезал их с полным убеждением, что, значит, он придет с войны живым, но больше для того, чтобы в дни сомнений Анна, все домашние получше помнили об этом, непременно-непременно его ждали.